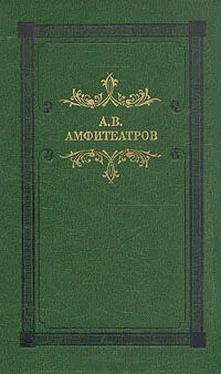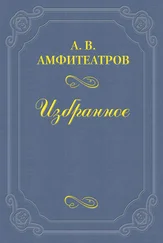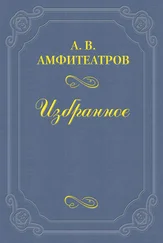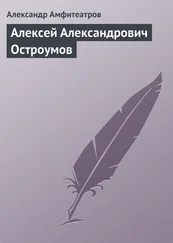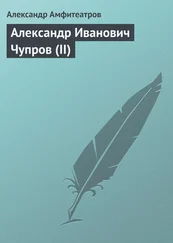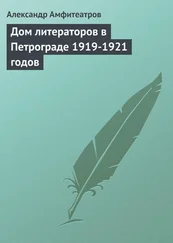Раньше я был неискренним, но честным человеком, и первое преступление легло тяжелым камнем мне на душу. Я не смел поднять глаз на жену, стыдился видеть себя в зеркале. Позор сознания, что я — представитель правосудия, счастливый семьянин, развитой человек — оказался способным на гнусный зверский поступок, заедал мое существование, и позор был тем более велик, что меня сильнее чем когда-либо тянуло к Вере. Единственным возможным оправданием была для меня упорная мысль: должно быть, я действительно горячо люблю, если не мог справиться со своею страстью… Грозное лицо, дикие слова Веры стояли в моей памяти, и мучительное любопытство, какого мужчина не может не чувствовать к женщине, заставившей бояться ее, влекло меня посмотреть на странную девушку и разгадать ее. Странное дело! Я не помню — я не умею вспомнить, была ли она девушкою, когда я ее там — на чердаке — взял… И тогда не мог вспомнить. Иногда мне казалось — да, иногда — нет, но стыдно, мучительно стыдно было одинаково всегда. Стыдно и страстно.
Мы увиделись, и судьба моя была решена. Я стал рабом Веры и весь ушел в идею: обладать ею на всю жизнь, назвать ее своею женою.
Между мною и Верою стояла Евгения.
В один темный вечер, когда в беседку арсеньевского сада — приют наших свиданий — теплый южный ветер дышал благоуханиями цветника, когда с черного неба смотрели на нас большие звезды, — я, задыхаясь от страсти, между двумя поцелуями, ответил любовнице согласием на страшный приказ убить жену.
С тех пор я жил словно в полусне, будто пьяный. Мой подавленный ум сроднился с идеей необходимости убить. Не понимаю, как я удержался от простого, грубого нападения на жену, как мог зародиться и вызреть в моей голове дьявольски тонкий план, которым я отправил на каторгу невинного человека, сам оставшись вне всяких подозрений! Я действовал как бы под внушением… О, Боже мой! если б я мог забыть эти безумные ночи в арсеньевском саду, робкий свет сквозь шумящую листву тополей, бледное женское лицо с сверкающими глазами, цепкие руки на моих плечах и тихий ровный голос, нашептывающий мне кровные слова!
В ночь на 17 сентября я хотел освежить свою душную спальню, встал с постели, попробовал отворить окно, и вдруг — будто нечаянным движением локтя — выбил стекло в раме. Утром жена проснулась с легким хрипотцом и уже заранее решила, что не пойдет на вечер к Арсеньевым. Пришел стекольщик Вавила и поправил раму. Он запросил лишнее, и жена с ним побранилась.
— Избавь меня от шума! — с досадою сказал я, — заплати ему, сколько он просит!
Евгения повиновалась, но, отдавая деньги, не утерпела, чтобы не обозвать Вавилу мошенником и вором. Стекольщик ушел ворча и очень недовольный.
Вавила был давно указан мне Верою, как человек пригодный, чтобы свалить на него подозрение. Помимо своей отвратительной репутации, он был драгоценен для меня еще вот чем: каждый вечер он напивался до бесчувствия и принимался буянить в своем доме; дело обыкновенно кончалось тем, что жена Вавилы сзывала соседей и выталкивала мужа из хаты на улицу, после чего стекольщик, покричав и поругавшись малую толику, отправлялся спать всегда в одно и то же место — на пустырь под забором нашего сада.
Оставив жену дома, я посоветовал ей лечь в постель. Я был совершенно спокоен, хотя знал, что вернусь домой лишь затем, чтобы убить Евгению. Видите ли, у меня чересчур много совестливости, но я не знаю, не вовсе ли умерла во мне совесть; я из тех, кто лжет, притворяется, насилует свою натуру, лишь бы не нанести постороннему человеку явного, хотя бы маленького нравственного укола, чтобы потом не слышать упреков за это, — но, во имя своего личного спокойствия или удовлетворения господствующей страсти, легко решается на тайное преступление над ближайшим другом. Я нервен. Сызмальства я боялся одиночества, потемок, крови. Годы и судебная практика закалили меня, но и ожесточили. Я присмотрелся ко всяким страхам и научился дешево ценить человеческую жизнь — слабую искру, погасающую от первой несчастной случайности. В самом преступлении я боялся одного: что застану Евгению еще не спящей и тогда не посмею напасть на нее. Евгения должна была умереть, не ведая, что я негодяй, продолжая верить в меня, как при жизни: один взгляд разочарования в ее честных глазах — и моя рука не поднялась бы на нее, я почувствовал бы себя ее рабом.
Я кончил робер за почетным столом и передал место мировому судье Сабурову, а сам присоединился к кружку молодежи. В комнатах было жарко; темный осенний вечер заманчиво глядел из сада в окно. Вера предложила гостям прогуляться немного. Сад у Арсеньевых громадный, тенистый и темный. Я шел сзади всей компании, под руку с Верой; она весело болтала со мной и еще одним молодым человеком, нотариусом Динашевым. Он остался без пары и шел рядом. Так мы добрались до крайней аллеи сада, протянутой вдоль берега Твы; здесь, у купальни, качался на волнах маленький ялик — забава Веры. Я почувствовал легкий толчок… сердце мое забилось: Вера дала мне сигнал действовать. Я нарочно споткнулся.
Читать дальше