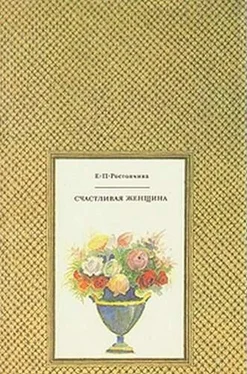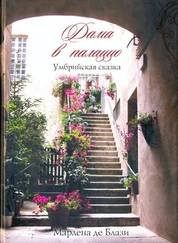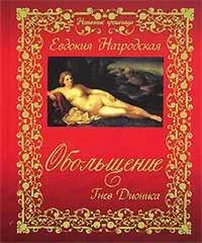Другая молодая особа, очнувшись от тяжелого сна, часто прерываемого волнениями честолюбивых ожиданий, отдернула край занавески, достала часы, посмотрела на них, скорчила значительную гримасу, позвонила и с трудом снова бросилась на подушку.
Вошла горничная.
— Ничего ко мне не приносили и никто не приходил? — спросила она торопливо.
— Нет! — было ответом; — да и кто придет так рано? — благоразумно прибавила горничная, основывая свое мнение на обыкновенной привычке своей госпожи — спать до осьмнадцатого часа, а иногда и долее этого.
— Дура! — коротко и ясно возразила синьора Бальбини и перевернулась нетерпеливо на другой бок.
Через пять минут она снова позвонила, снова повторила свой вопрос; опять получила тот же неудовлетворительный ответ — и в утешение велела подать себе зеркало, потонув взором и душою в созерцании собственной красоты.
Если синьора Бальбини судорожно и лихорадочно ожидала бумаг, которые должны были упрочить ее звание супруги маркиза Форли, то Динах дель-Гуадо не могла не знать своего родителя и не быть уверенной, что он продержит ее как можно долее на горячих угольях ожидания и неизвестности, чтоб как можно позднее сдержать свое слово и расстаться с векселями, стоящими ему столько денег. Синьора, полюбовавшись своим личиком под грациозно наброшенным чепцом с голубыми лентами, отослала свою горничную и принялась строить воздушные замки своего будущего величия.
Она воображала себя на вершине своих желаний и надежд — полною маркизою и повелительницею, как всего палаццо своего супруга, так и самого этого супруга, давно подвластного и подобострастно покорного ей Лоренцо… Эта судьба казалась довольно блистательной для дочери Ионафана, родившейся в залавке крошечной конторы, где долго отец ее копил и собирал свою монету, для маленькой Динах, которая в Риме была бы еще и теперь заперта в душном, тесном, грязном Гетто, отделенном железными воротами от христианских жилищ. Время шло, час уже минул, а никто не приходил от Ионафана… Дочь его сердилась и, чтоб рассеяться, стала выбирать свой наряд для утра. Она намеревалась предстать перед Лоренцо как героиня мелодрамы; в минуту избавления, — произвести в нем сперва страх, потом восторг и благодарность, и для этого сначала решено было надеть черное платье и небрежно разметать и распустить по плечам свои белокурые волосы во всей их красоте… Но она вспомнила, что распущенные волосы на театре означают непременно сумасшедшую, а черное платье утром не так идет блондинкам. Нет! Она будет вся в белом, — в легком, прозрачном, эфирном кисейном платье. И это не годится!.. Кто носит белую кисею в марте месяце поутру?.. Это не принято. Она наденет самое нарядное из своих нарядных шелковых платьев и приведет в лучший порядок свою прическу, чтоб доказать Лоренцо радость свою и готовность его спасать; она устроилась так, чтоб при первом ее движении могла в пору расплестись хоть одна из этих роскошных золотистых кос, столь им любимых. Это придаст ей живописность в ту решительную минуту, когда маркиз, узнав от нее, что она для него делает, бросится к ногам ее и будет ей предлагать то имя и богатство, которые она ему возвращает… Он и так с ума сходит от ее чудесных волос: тут он будет увлечен, очарован, побежден… иначе быть не может! Вот какие мысли занимали Динах, пока она ожидала от отца потребованные для нее Джудиттой заемные письма и закладные маркиза Форли.
Время шло… горничная уже раз шесть или семь появлялась на звонок госпожи своей, и всегда ответ ее был один и тот же: никто не приходил, ничего не приносили! По улицам уже распространялось волнение, предвещавшее близкое начало карнавала. Часы, в которые открываются судебные места, прошли давно… Динах недоумевала и бесилась.
Наконец, ей пришло в голову, что с помощью Сан-Квирико найдется какое-нибудь средство представить векселя и может совершиться акт, уничтожающий расписку Сан-Квирико, расписку, подмененную искусною уловкою Джудитты, и единственное оборонительное и наступательное орудие в ее руках.
При этой мысли она рванулась, как разъяренная львица, к постели своей, разом кинулась из нее. Одним прыжком очутилась она у яшмового столика, на котором стоял черепаховый баул; она отперла его поспешно и достала ту бумажку, которую предъявляла за два дня отцу. Потом поторопилась одеться и, перебирая в памяти давно обдуманную роль, отправилась в палаццо Форли.
Теперь надо объяснить, почему Ионафан не присылал дочери обещанных им векселей, — и показать, в каком стесненном положении, в каком отношении между собою находились все люди, ждавшие развязки многосложной борьбы, происходившей около палаццо Форли, за его обладание.
Читать дальше