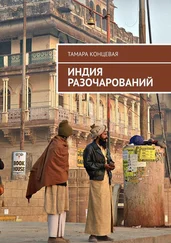С тех пор и осталось у меня — как только увижу Эйфеля, меня сразу клонит ко сну.
В тот вечер с Лионского вокзала мы уехали в Оранж, где уже была размещена в ожидании отправки к Врангелю партия солдат, уехавшая из Финляндии в начале октября. В большом зеркальном окне проплыли и исчезли станционные огни, дробившиеся в мелких каплях дождя. Некоторое время мелькали тусклые фонари пригородных пустынных улиц, загорались и потухали черные лужи. Когда парижские пригороды ушли в темноту, в окне, исчерченном косыми струями дождя, отразилась рябая внутренность вагона: лучистый ореол вокруг электрической лампочки, багажные полки, заваленные чемоданами, Вялов, игравший в очко сам с собою.
Уже засыпая под неприхотливый стук вагонных колес, я в первый раз после того, как покинул Финляндию, подумал о том, зачем я еду. Ведь я не знал России — все мое детство прошло в Финляндии, правда, всего лишь. в шестидесяти километрах от Петербурга, но в стране безбытной, полурусской, полуфинской, среди суровой природы Карельского перешейка, суровой и прекрасной, но все же далекой природе средней России, о которой я знал только по рассказам и книгам. Правда, была бабушка с ее русскостью, которой могло хватить на целый уезд. Мне кажется, что если бы бабушка поселилась где-нибудь в парижском пригороде, то через несколько лет Медон или Кламар превратились бы в кусочки России. По-настоящему русский народ я встретил впервые во время моего путешествия вокруг Европы и почувствовал, что он не в капитане Ратуше, не в фон Шатте, а в Косте Вялове, в его друге Феде Мятлеве, в безымянных русских солдатах, которые меня окружали во время путешествия. Я еще не мог ответить, зачем я еду, и вскоре крепко заснул, упершись в плечо Вялова.
2
Оранж — маленький провансальский городок — знаменит развалинами античного театра, до наших дней донесшего необыкновенную гармоничность архитектурных линий, — недаром Людовик XIV сказал о его фасаде, что это «лучшая стена во всем моем королевстве», — и триумфальной аркой, воздвигнутой легионерами Цезаря в 49 году до нашей эры. Но первое впечатление, крепко врезавшееся мне в память, связано не с историческим прошлым города. Мы шли от вокзала узкой и пыльной улицей. Белесые каменные стены теснили ее: с одной стороны стены каменных высоких оград, гребни которых были покрыты зеленым бутылочным стеклом, с другой — двухэтажные дома с наглухо закрытыми веками деревянных ставен. Мертва была пустынная улица, мертвы белесые стены оград, мертвой и тяжелой казалась полдневная тишина провинциального города. Только вверху, над розовыми черепичными крышами домов, на горе, озаренная лучами яркого солнца, плыла статуя мадонны. И чем вокруг было мертвенней и безжизненней, тем живей и одухотворенней казалась как бы пронизанная воздухом летящая статуя.
Безобразные одноэтажные здания казармы, где нас разместили, широким четырехугольником закрывали внутренний, грубо вымощенный двор. В последний раз их белили, вероятно, еще до войны… Облупившаяся местами штукатурка обнажила красный кирпич. Многие здания были пусты, они угрюмо оскалились выбитыми окнами. Во все стороны торчали острые зубья стекол, и сломанные рамы уныло раскачивал северный ветер. Посредине одного из дворов лежала огромная куча мусора — железного лома, камней, известки. На плоских камнях, оставшихся лежать посредине двора со времени последнего ремонта, сидели французские солдаты. На всех были грязные, давно потерявшие свой первоначальный цвет рабочие штаны. Один из них, в форменной голубой шинели, накинутой на одно плечо, при виде нашей группы весело закричал:
— Voila encore des russes!
Из низеньких и необыкновенно узких дверей, над которыми были выведены полукругом черные корявые буквы: «La cantine», доносилось пение. Очень высокие, прекрасный тенор с оперным размахом — только на самых высоких нотах прорывалась пьяная хрипотца — разливался, стонал, упивался собственной своей полнотою:
Мимо палаццо и лоджий,
Мимо пьяцетт и колонн
Плыли с тобою. О боже,
Дивный приснился нам сон.
— Это Санников, — сказал мне Федя Мятлев. — Опять пьян. Верно, французы напаивают его за голос.
В эту минуту Санников появился в дверях кантины, окруженный солдатами в голубых шинелях. Расстегнутая гимнастерка обнажала смуглую шею, черное цыганское лицо было полно упоения, он ничего не видел перед собою. Вероятно, слова, которые произносил Санников, были ему непонятны, по он повторял их с особенным удовольствием, — чем необыкновеннее слово, тем прекраснее оно ему казалось: его подвижной, гуттаперчевый рот, оттененный жиденькими усами, с особенным вкусом, округляя, выбрасывал взлетавшее, как воздушный шар, слово «баркарола».
Читать дальше

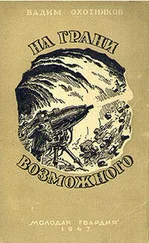




![Алексей Смирнов - Свиток первый - История одного путешествия [СИ]](/books/419417/aleksej-smirnov-svitok-pervyj-thumb.webp)