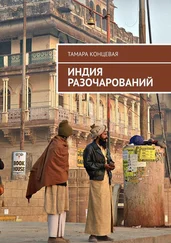Для связи с батареей, на которой находились Антоненко, Орлов и Фатюков, мы выбрали полуразвалившийся дом в двух шагах от проволочных заграждений, окружавших батарею. Дом стоял над обрывом, у самого берега моря. В этом же доме, в черной дыре дымохода, был устроен почтовый ящик. Почтальоном служила моя двенадцатилетняя дочь: девочка, собирающая траву для кроликов, не вызывала подозрений. Время шло, американцы и англичане высадились в Нормандии, русских лишили воскресных отпусков, встречи стали все более затруднительными. Однажды я получил записку от Антоненко, просившего меня прийти «вечерам, когда стемнеет», в «наш» дом.
Хотя ночь была лунная, мне удалось пробраться незамеченным: обрывистый берег отбрасывал черную полосу тени, у края которой с шумом разбивались серые волны. Пройдя вдоль прибоя километра полтора, я приблизился к батарее. Невдалеке, за колючей проволокой, торчала фигура часового. Вверху, по краю, обрыв порос, кустами тамариска. Черные корни, обнаженные прибоем, свисали до самого моря. По ним я взобрался наверх, продрался сквозь заросли, благополучно пересек небольшую лужайку, до боли в глазах освещенную луной, и сквозь полуразрушенную стену проскользнул в дом. На полу, усыпанном обвалившейся штукатуркой, лежали пятна лунного света, проникавшего сквозь дыры окон. Я задыхался — влезть на семиметровый обрыв по корням тамариска не так просто. Открытое место, проглядывавшееся из батареи, мне показалось особенно опасным. «Надо будет хоть кучу хвороста сложить на лужайке», — подумал я. Я увидел фигуру Володи, притаившуюся в тени.
— Как будто часовой меня не заметил, — сказал я.
— Наверное, заметил. — В полумраке я увидел, как Володя улыбнулся. — Только часовой наш узбек. Он не то что по-немецки, но и по-русски еле говорит.
Я почувствовал себя довольно глупо: скрывался от часового, а часовой все равно знал, что я пробегу.
Внешне Антоненко был спокоен и даже, как всегда, несколько медлителен. Все же было видно, что спокойствие дается ему нелегко.
— Меня переводят на батарею «Мамут» — в Ла-Котиньер. На мое место прислали узбека. Немцы думают, что чем больше они нас будут тасовать, тем труднее нам сговориться. Они ничего не понимают. А вот мне только одно ясно — мы не можем больше ждать. Орлов, ты знаешь его характер, такое загнул фельдфебелю, что тот, даром что ничего не понял, чуть было не отправил его в Шато, в тюрьму. Прошло полгода, как мы связались с французами, уже открылся второй фронт, а мы — сиди и жди.
— Ты знаешь, что приказ у нас определенный — не двигаться, пока не будет указаний французам, вы нужны именно внутри батарей. Поверь, когда две зеленых ракеты…
— Мы уже все глаза проглядели в ожидании ракет. Не можем мы больше ждать! — с отчаянием воскликнул Володя.
Помолчав, он продолжал:
— С моим другом Петей, — он был военнопленным, сбежал и скрылся в Мозыре, — мы спустили под откос поезд. Нас было всего двое. Все было очень просто (любимое выражение Антоненко, когда дело шло о трудном предприятии: «Все очень просто»): подобрались к железнодорожному полотну ночью, в дождь, подкопали под рельсом, положили динамитную шашку, под другой рельс — противотанковую мину и ушли. Мы были уже километрах в трех, когда раздался взрыв. Что там взорвалось — не знаю, только вскоре увидели зарево. Немцы открыли стрельбу, можно было подумать, что на них напали партизаны. А через несколько дней Петю арестовали — случайно попал в облаву. Посадили в тюрьму. Когда его перевозили, пытался бежать, но его поймали и убили на месте. Пристрелили. Потом и я попался. Про поезд, конечно, не дознались. Отправили в Германию… И вот с тех пор…
Володя замолчал. Меня поразило, с какой скромностью он рассказывал о себе.
— С поездом все было просто, — продолжал он. — Вот и теперь в два счета можно взять батарею, даром что на ней шестьдесят пять человек. Среди солдат есть чехословаки и польские военнопленные. Даже австрийцы и те пойдут с нами.
— Ты же сам понимаешь, что через два часа батарею сровняют с землей…
— Одной батареей будет меньше.
— Володя, без французов мы не можем пускаться в авантюры. На острове не спрячешься.
— Наши войска освобождают Белоруссию. Немцам крышка. Они сами знают — капут.
— Американцы уже подходят к Парижу. Скоро придет и наша очередь.
Володя заговорил о своей деревне, затерянной среди белорусских лесов и болот. Теперь я не могу восстановить его слов, тех обрывочных фраз, которые, как стрелы, пронзали меня. Даже записанные стенографически, они не передали бы того щемящего голоса, которым произносились. Я видел, что все его существо опалено внутренним неугасаемым огнем, выжигающим шлак. «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Я видел перед собой не девятнадцатилетнего мальчика, а Россию, охваченную одной волей, одним неудержимым стремлением побить врага.
Читать дальше

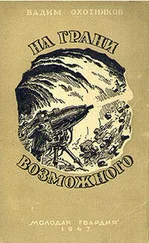




![Алексей Смирнов - Свиток первый - История одного путешествия [СИ]](/books/419417/aleksej-smirnov-svitok-pervyj-thumb.webp)