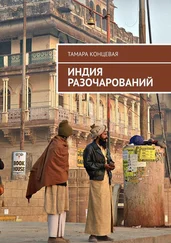Вдруг Федя начал плевать мелкими сухими плевками, как будто в рот ему попал табак.
— Ты что это?
— Мне все кажется, что вокруг зараза. Эх, стоило беречь себя до двадцати трех лет…
Расплатившись с хозяйкой, — все качалось вокруг, только она одна, как скала средь бушующего моря, возвышалась неподвижной громадой, — мы вышли на улицу. Шел дождь, мелкий и надоедливый. Вдалеке поблескивал одинокий фонарь. Я помню, как под этим фонарем мы долго разговаривали друг с другом, как я пытался утешить Федю и как он, так и не утешившись, ушел от меня, угрюмо отплевываясь сухими плевками.
3
В Марсель мы приехали в первых числах ноября. Нас разместили на северной окраине города, в лагере Конвингтон. На черной от угольной пыли, кое-как утрамбованной земле были разбросаны многочисленные казармы: длинные, одноэтажные бараки с маленькими четырехугольными окнами, а то и совсем без окон низкие невидимой тяжестью придавленные к земле. Нам отвели барак на самом краю лагеря, около проволочной изгороди. Между покривившимися черными столбами, на которых извивались во все стороны, как щупальца осьминога оборванные концы колючей проволоки, проходила неизвестно где начинавшаяся немощеная дорога. Еще дальше там, где виднелись первые дома Марселя, поднималась высокая, глухая стена, из-за которой торчали вершины трех серых пальм, смахивавших на обтрепанные веники. С другой стороны лагеря поднималась гора, исчерченная заборчиками и грядками огородов, а вдалеке, из ее недр, из черного жерла туннеля, вырывались поезда, пронзительным свистом приветствовавшие возвращение дневного света. Наш барак, сложенный из наспех привинченных друг к другу железных гофрированных листов, был похож на огромную, проржавевшую от времени консервную банку. Внутри, на земляном полу, были поставлены двухэтажные американские нары. Они образовывали длинный, как кишка, коридор, расширявшийся посередине, где стояла узкая, похожая на столб, железная печка, дымившая даже в тех случаях, когда ее не топили. Окон не было — свет проникал сквозь щели в крыше, и в бараке царил даже в солнечный полдень глухой полумрак, в котором деревянные брусья нар становились похожими на скелеты доисторических чудовищ. По вечерам около печки зажигалась одна-единственная керосиновая лампочка с закоптелым стеклом. Издали она напоминала огонь маяка, затерявшийся в глубоком мраке.
Я с трудом втискивался в условия казарменной жизни, — если бы не моя дружба с Мятлевым, я, быть может, так и остался бы за бортом: солдаты всячески остерегались признать своим чужака-«билигента», который под пьяную руку обругал Горяинова «интегральным исчислением». Это «интегральное исчисление» мне долго не могли простить — ругательство было непонятно, а потому особенно обидно, обиднее всех небоскребов с перечислением предков до седьмого колена и попутным упоминанием святых и мучеников. Неожиданно в моем трудном сближении с солдатами мне помогла моя способность подбирать рифмованные прибаутки.
Техника прибаутки проста — в первой строке конкретная подробность, характеризующая собеседника:
Ты, Петрушка, волосатый,
во второй — неожиданная просьба:
Дай-ка франк, коли богатый.
Иногда прибаутка просто превращалась в рифмованную закорючку — афоризм. Особенным специалистом по изобретению неожиданных афоризмов был Вялов. Две строчки, пущенные им в обиход, пользовались особенным успехом:
Ночью, днем ли, все одно —
Пить да пить бы нам вино.
По вечерам, когда безденежье, безделье и тоска загоняли нас на нары, а спать еще не хотелось, начиналось состязанье прибауточников. В темноте поблескивали розовые огоньки папирос, ветер громыхал железной крышей, угрюмо и мерно шлепали капли дождя, образуя лужицы посередине коридора, глухо и упрямо ворчал Горяинов, которому мешали спать. Начинал состязание по обыкновению Вялов:
Что-то, братцы, заскучали мы,
Грешной жизнью измочалены.
Раздавался взрыв хохота, и в темноте голос Санникова, прекрасный и нежный, даже когда он не пел, весело подхватывал:
Не кручинься, не сердись,—
Перебудем нашу жисть.
Я вскоре привык к состязаниям и не уступал даже Вялову в изобретательности. Однажды, когда я загнул, неожиданно даже для самого себя, особенно заковыристую прибаутку, не помню какую, да все равно и привести ее нельзя было бы — почти все прибаутки нецензурны, — с верхних нар раздался глухой басок Кочкина, солдата чрезвычайно мрачного и горького пьяницы:
Читать дальше

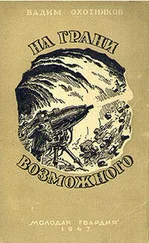




![Алексей Смирнов - Свиток первый - История одного путешествия [СИ]](/books/419417/aleksej-smirnov-svitok-pervyj-thumb.webp)