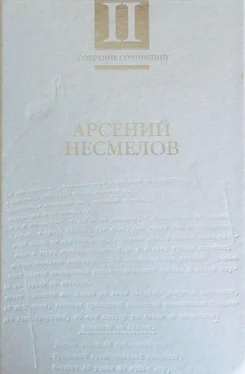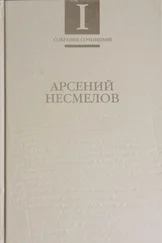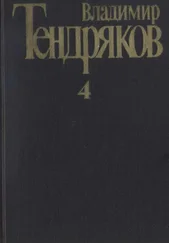— Не люблю я, ваше благородие, когда штаб полка ротного тревожит. Обязательно неприятность.
— А что, разве денщичий телеграф о наступлении толкует? — улыбнулся прапор. — Не скули, Влас. До самой смерти ничего не будет. А вот поджарка готова. Режь хлеб!
Янушевич перенес котелок на самодельный, из ящика, стол и нетерпеливо смотрел, как Влас, прижав к груди тяжелый буханок хлеба, резал толстые ломти.
Опять затопали на лестнице. Вернулся Рак.
Он посасывал черный седеющий ус и морщил переносье, отчего его косматые брови, как две гусеницы, наползали одна на другую.
— Влас, выйди! — приказал ротный.
Неловко положив хлеб на стол, солдат нырнул в низкую дверь и от торопливости, не успев согнуть высокий рост, стукнулся головой о притолоку.
— Наступление? — дрогнувшим голосом спросил Янушевич. — Что?
— Хуже, — выругался матерно Рак. — Хуже. Короткий удар!
— Нашей ротой? — чернея лицом, пролепетал прапорщик.
— Вашей полуротой, — подчеркнув вашей, ответил ротный. — За контрольным пленным.
— Быть не может!
У Янушевича разом пропал аппетит. Отодвинув подальше котелок, ибо запах пищи вдруг стал возбуждать тошноту, он стал плаксиво жаловаться:
— Подумайте сами, Василь Яковлевич, разве это возможно на нашем участке? Ведь они кругом в проволоке! Одного ряда не перережешь, как всех положат. Глупо же! Ну на кой черт из-за пары пленных жертвовать жизнью ста человек? Да и не возьмешь пленного!
— Не возьмешь! — согласился ротный. — Я так и сказал: «Слушаюсь, господин полковник, но на успех не надеюсь».
«Как же! — подумал прапор. — Так он и скажет, кислая каша [19]Да и как скажешь: “Не верите, мол, так сами полезайте!”».
И опять заныл:
— Значит, пожил, довольно! Так сегодня и домой напишу. Вы сами, Василь Яковлевич, подумайте, возможно ли это? Наверняка всех укокошат.
— И очень просто! — пробасил Рак и вдруг, уже официально:
— Однако идти надо. Ни фига не попишешь. Дисциплина! Вам полуроту приготовить надо. До самого конца гренадерам не велено говорить. Соврите что-нибудь о разведке. Чего же не едите-то? — вдруг спросил он, учуяв запах жареного.
— А на черта есть, если меня самого через день черви есть будут! — злобно проворчал прапор.
Он уже завидовал ротному, который сегодня из окопов, в безопасности, будет наблюдать за его вылазкой, завидовал и ненавидел его.
И хохол, хитрый и умный, понял это.
— Ну так я съем, — сказал он. — А насчет червяков — напрасно. Мороз теперь. До тепла в соседстве пролежите.
И вдруг, словно сбрасывая личину наглого фельдфебеля, расплылся простой добродушной мужицкой улыбкой:
— Да ты очень-то не расстраивайся, парень! — мягко и ласково пробасил он. — Уж я ли в таких переделках не бывал! Страшно вспомнить, как мне дались золотые погоны. А жив. Главное, до ночи еще далеко, глядишь, и передумает начальство.
Как ни маловероятна была надежда на отмену приказа, но последние слова странно успокоили прапора. Человеческое сознание, как и утопающий, тоже умеет хвататься за соломинку.
И Янушевич сказал:
— А все-таки надо приготовить гренадеров!
— Приготовить надо, — согласился командир, вновь становясь фельдфебелем, — это твой воинский долг. Служишь Царю и Отечеству.
И Янушевич не понял: глуп ротный или же просто смеется над ним.
III
Войдя в ход сообщения — глубокий, в рост человека ров с отвесными стенками, которым соединялись между собой землянки роты, — Янушевич зажмурился от яркого солнца, горевшего на снежных сугробах поверх хода сообщения.
Боль в глазах вызвала досадливую мысль:
«И в легких непорядок. Полковой врач предлагал в госпиталь! Не лег, дурак. А теперь поди ляг! Вот и остался бы жив».
Засвистав от досады, прапор двинулся к землянкам гренадер.
Было тихо, потому что наши солдата отдыхали, пообедав, а немцы в этот час пили «каву» — кофе. Только где-то очень далеко погромыхивали пушки.
Замаскированный выглядывавшим из-под снега хилым кустиком, прапор, высунувшись из хода сообщения, стал смотреть на немецкую сторону.
Вот она, немецкая проволока. Триста двадцать шагов до нее. Считано и пересчитано. Между нею и нашими заграждениями — снег. Белый, ровный, серебряный. Только вчера выпал.
А бугорки на нём — не кочки. Трупы. Вон он, правый сугроб — разведчик Комов, а левый — солдат второго взвода Макгудинов. Два других — немцы.
Подобрать нельзя.
Наших — немцы не дают, немцев — наши. Только сунься. А ночью — прожекторы и ракеты. Да и зачем им, трупам-то? Не всё ли равно им теперь?
Читать дальше