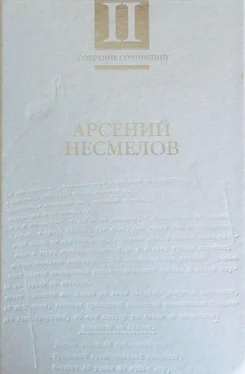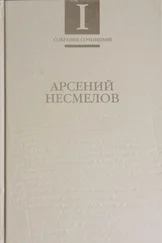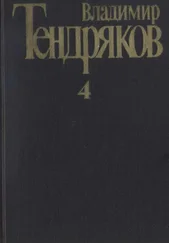— Кажется, я тоже уйду в монахи. Может быть, сон мой вещий. Видишь, и полегчало мне, — и Антон Петрович приподнялся и сел. — Голова почти не болит, и тошноты нет…
Он не договорил: над их головами раздался крик — кричал, ругаясь, китаец. Сашка вскочил, хватаясь за рукоятку ножа. Поднялся и Антон Петрович… По крутизне той тропы, которую Сашка обнаружил справа от площадки, цепляясь руками за кусты и камни, спускался к реке Яков. Русский беловолосый парень в белой курме и коротких широких черных штанах.
Найдя ногой прочную опору, он приостановился и. повернувшись к отмели, снова закричал. Мешая русские слова с китайскими, он бранил Антошу, он жалел, что не убил его, что не убил и Верку, и обещал еще убить ее. Он проклинал и Сашу, который, как он думал, ловил его, скрывшегося на сопке.
Оскорбленный этой бранью, Сашка ринулся было на высокий массив скалы, уходивший в воду и отделявший их обоих от Якова, спускавшегося к реке по другую сторону. Но камень был слишком кругл и скользок.
— Оставь! — остановил Сашку Антон Петрович. — Разве не видишь, он с ума сошел. Он думает, что мы его преследуем…
Скрябин подумал, что во всем виноваты только они оба, ибо в это захолустье с десятком окитаившихся русских семей и он, и Сашка прибыли не с чистой целью помочь или хотя бы пожалеть, а отыскивать драгоценные камни, окровавленные убийством. Но Антоша ничего не сказал — не только физически, но и внутренно надломленный, он уже робел и пасовал перед грубою простотою спутника.
* * *
Чтобы рассказать о дальнейших событиях, пришлось бы написать столько же, сколько я уже написал, — то есть целый роман, а у меня нет для этого ни времени, ни терпения. А значит, пропустив многое и многое, надо переходить к эпилогу этой истории, начало которой относится к годам пятнадцатилетней давности.
Все-таки Скрябину с Сашкой удалось увезти Веру из деревни, но не мольбы Гвоздева склонили ее к этому, а тихое слово Антоши. Мужу Федосьи пришлось за выкуп девушки порядочно заплатить, а матери пообещать, что в скором времени и ее переправят в Харбин. Чтобы раздобыть нужные деньги, Скрябин съездил в Сахалян, где продал несколько камней.
Потом… потом Скрябин все-таки постригся в монахи, а Вера стала женой Сашки Гвоздева, и они действительно завели закусочную лавочку под вывеской «Волжские просторы», где бывшие Сашины соратники всегда пользовались кредитом и на пару стопок водки, и на чудесные пирожки.
Вот и всё. Конечно, читатель спросит, почему я ничего не говорю о Марковне? Может быть, потому только и молчу я, что о судьбе некоторых людей лучше ничего не говорить, а только молчаливо преклоняться перед нею.
С четырнадцати лет Ван Хин-те лишь очень редко вспоминал, что он — не китаец. Это бывало, например, когда он болел и его лихорадило, и тогда воспоминание о каком-то ином, докитайском существовании приходило вместе с полубредовыми ощущениями и вместе с ними забывалось, лишь только он выздоравливал. Кровь, приливавшая к его голове, открывала какие-то глубоко скрытые тайники его памяти, и тогда из этих тайников туманно, как бы сквозь тонкий дым, выплывало лицо женщины, совершенно не похожей на тех, что окружали Вана, и ее губы произносили слова, значения которых он не понимал. И еще это женское лицо иногда проникало в сны Вана.
В обычное же время, с утра и до вечера, а иногда и до ночи, занятый в мастерской своего приемного отца, старого Чжана, Ван совершенно не помнил о том, что он чужой среди приютившего его народа, что он — русский. Правда, еще совсем недавно городская детвора, а под сердитую руку и сам Чжан или его жена, напоминали ему об его происхождении, называя его ламозой, что было оскорбительно, ибо словами «ламоза лайла» — русский пришел — китаянки пугали своих капризничавших детей. Маленького Вана сверстники называли ламозой, как китайского ребенка, воспитывающегося среди русских, сотоварищи его игр, дразня, обязательно величали бы ходькой, и это обижало бы ребенка, желающего быть русским среди русских. А маленький Ван хотел быть китайцем, и, сердясь на кличку «ламоза», он вел себя соответственно: отругивался, дрался, плакал, жаловался. Ибо он не хотел быть никем другим, а только китайцем, хотя его большие серые глаза и золотистые, мягкие волосы и указывали на совершенно другую кровь.
Но какое дело было Вану до его внешности, если он никогда не смотрелся в зеркало и никогда не видел около себя ни одного европейского лица. Он хотел быть китайцем и потому еще, что с именем «ламоза» в его уме сочеталось представление о людях, наделенных злой колдовской силой, о людях страшных, пугающих, о которых взрослые говорили недоброжелательно. И Ван-малютка всем своим существом протестовал против причисления его к русским, ибо чувствовал, что сопричисление это порождает вокруг него зловещую пустоту, изгоняет из круга детских игр и делает отщепенцем даже в семье его приемного отца.
Читать дальше