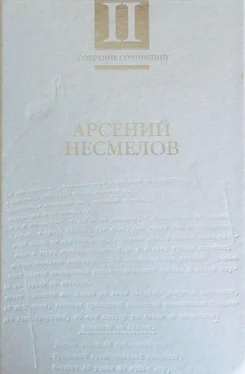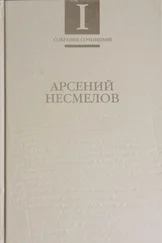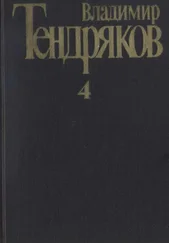Впрочем, ластились они только спервоначалу. Вы, мол, матросом во флоте служили, натерпелись, поди, бедненький, от офицерского характера! Я же напрямик говорю: «И ничего не натерпелся, — дай Бог всю жизнь во флоте служить. Кроме хорошего, ничего от офицеров не видел».
Тут, значит, и дружба у нас врозь. Перестали они мне доверять.
А один так даже наскакивать на меня стал. Звали его Пяткиным Василием. Тоже он из флотских был, не помню только, на каком корабле плавал. А теперь он слесарную мастерскую в городе имел, и поговаривали про него, что он якшается с уголовниками— При нас он сам этого хоть и не подтверждал, но не очень и отрицал.
Только, бывало, скажет:
— Раз по уставчику господина Прудона собственность есть воровство, то воры есть наипервейшие люди, восстанавливающие мировую справедливость.
Вот я раз и говорю Тоне, когда мы вдвоем были:
— Так, мол, и так, Антонина Ивановна, как хотите, но дрянь человечишки вокруг вас!
— Почему такое?
— По всему. Против всего идут, потому что у самих ничего нету, — чистым путем в люди не могут пробиться.
А она мне:
— Это очень относительное понятие — чистый путь. В вас, Андрей Петрович, мещанские предрассудки говорят.
— Дворянским предрассудкам, — отвечаю я ей, — во мне и завестись неоткуда, потому что я мужик Калужской губернии. А если шлифовка во мне несколько обозначается, то она только с военно-морской службы появилась. Которые же вас люди окружают, так они против нашего флота идут. А мало вам недавно во Владивостоке нашего брата, матроса, расстреляли за бунт, который они подняли с подзадоривания вот таких же, извините, Прудонов, что вас окружают.
И сердечно говорю:
— Как хотите, Антонина Ивановна, но надо бы нам с вами наши отношения выяснить. Конечно, я в романах читал, что мужчине полагается перед девицей млеть и трепетать, но млеть и трепетать я не умею, полюбил же я вас крепко на всю жизнь. А потому и вы скажите мне прямо и откровенно, хорош я для вас или нет, и пойдете ли вы за меня замуж.
Она мне, с насмешкой:
— Ах вот что? Стало быть, вы собираетесь из меня, революционерки, сделать почтенную хозяйку вашей квартирки в Гнилом углу? Кур разводить, детей плодить?
Я говорю:
— Относительно кур и иной живности как пожелаете, а деток действительно мне хотелось бы иметь, если Бог их пошлет.
— Мещанин! — она мне с этаким злым блеском в глазах. — И как только такой человек мог мне понравиться, как я ужасно ошиблась! Я думала, что я его на большой революционный путь подниму, а он… деток!
— Это, стало быть, — с горечью говорю я ей, — вы меня на виселицу, что ли, хотели поднять? Благодарю покорно! И сам туда не полезу, и вас не пущу.
— Как так?
— А очень просто. Я этих самых людей, что вертятся вокруг вас, прекращу в одночасье.
— Не понимаю. Как «людей прекращу»?
— А очень просто. Я о них обо всех начальству флотского экипажа доложу!
Тут она аж взвыла на меня: и шпион-то я, и предатель, и провокатор. И что возненавидела меня она, тоже кричала. И то, и другое, и третье, и десятое. Но странное дело — она кричит, глазами сверкает, но чувствую я, что не сама она кричит, а выходит из себя в ней то, что в нее напели, навертели. Вот только всё это в ней голос и подает.
И не отпускает она меня. Я к двери, а она: «Нет, постойте, вы должны выслушать меня до конца, чтобы понять всю вашу низость!» И глаза, понимаете, — несчастные, умоляют ее глаза, останавливают на пороге, как сила колдовская.
Так у меня с ней разрыва и не получилось. Да я этого разрыва и не желал, потому что крепко все-таки я любил Тоню. Ушел я от нее с такой мыслью, что она то ли порченая, то ли больная, но что я ей не противен и могу ее добиваться. И главное, чувство мое к ней какое-то такое нежное стало, как к ребенку, которого портят злые люди и вот-вот погубят.
И понял я еще тогда, что надо мне с Тоней проявить твердость, а потому я и курсы перестал посещать. Нужные слова, думаю, я ей уже сказал — пусть они теперь в ее душе дозреют.
И хорошо сделал, что выждал. Была у меня твердая уверенность, что Тоня сама ко мне заявится. Так и случилось.
Проходит недели две. Встречаю Тоню на улице. Смотрю, похудела, глаза совсем умоляющими стали.
— Что, — спрашивает, — не заходите?
— А что же заходить-то, — говорю, — Антонина Ивановна? Всё промежду нас ясно и прекрасно. Всё, кажется, заканчивается. А что касается ваших знакомых, Прудонов этих самых и Карлов Марлов, то помяните мое слово — не доведут они вас до добра!
Читать дальше