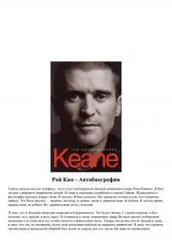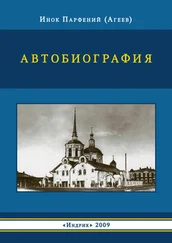Юлия Шмуклер - Автобиография
Здесь есть возможность читать онлайн «Юлия Шмуклер - Автобиография» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Русская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Автобиография
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Автобиография: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Автобиография»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Автобиография — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Автобиография», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
В общем, рассказ надо зачать (сценой конца), выносить в страхах неполноценности, и родить согласованными усилиями всего организма. Роды ошеломляющий процесс и производятся большим колесом, которого не было у меня в математике. Каждая его лопасть - это текст, мгновенно пробегаемый и потом еще текст, мгновенно пробегаемый - и маленькие колесики еще подкручивают пропущенные фразы; оно растет, растет, становится огромным, выходит из моей головы и, захватив меня в свой обод, так что только ноги вздернуло, катит солнечным резаком по плану рассказа, разворачиваясь туда и сюда, разрезая материалы, притирая их гранями, и сбивая в твердое тело. Дальше, при перепечатке на машинку, в первом исполнении на публику, я это тело шлифую и превращаю в кристалл: я печатаю только то, что помню, а помню я только "правильный" текст. Текст един, и моя вера в это нерушима. Все, что я забываю - выпадает: у меня патологически плохая память, и в ней остается только цеплючее. Тот факт, что я пушкинских стихов не помню, а свои длинные рассказы помню наизусть, свидетельствует не только о моем возмутительном себялюбии, но и о том, что дело это мое кровное и личное, и я учу его днем и ночью. В сущности, я занимаюсь устным народным творчеством - только рассказываю сама себе.
Так как я знала, что "Чудо" - "в яблочко", я смогла усвоить еще один урок массовой психологии. Те из моих знакомых, которые читали мою графоманскую продукцию, обязательно находили в нем недостатки, давали советы, как его переделать и иногда делали это сами: в "Еврейском самиздате" рассказ появился с вырезанной серединой и измененным названием. Те же, кто меня в графоманской роли не наблюдали, никаких недостатков в рассказе не находили и утаскивали его к себе, как кошка котенка. Вот и прислушивайся после этого к голосу критики. Так как без критики нельзя, то я вышла из положения, найдя себе читателя No 1, читателя No 2 и так далее бывают люди с абсолютным литературным слухом. К ним я обращаюсь, когда моя душа меня гложет; когда же она спокойна, я - тоже, и мне никто не нужен. Я огляделась кругом в поисках рукоположения - никого что-то не нашла и так с той поры неположенная и хожу. Я ощущаю это как формальный непорядок, что никто меня не трахнул мечом по плечу - культурные традиции должны продолжаться, даже среди пустырей, помоек и могил, которыми сопровождается разрушение старого мира. Как поется в Интернационале: "весь мир насилья мы разрушим до основанья, а потом..." Потом обычно бывает суп с котом.
После "Чуда" я написала еще "Последний нонешний денечек" - и прошел испрошенный мной год, настало время отъезда. Сам отъезд был патетический по каким-то своим соображениям большевики не разрешили нам взять багаж, и ноябрьским мокрым вечером мы бежали втроем к самолету: я в своем коричневом пальто, с пишущей машинкой и тяжеленным портфелем с научными черновиками; справа пыхтел сын, в серой курточке, купленной для школы, тащивший картину, подаренную мне ребятами-математиками после защиты - причем с нее непрерывно разматывались белые тесемки и волочились за нами по мокрому асфальту; и слева поспевала мама в черном пальто с двумя сумками, приговаривая "пропали наши вещи". Впереди светила желтыми огнями "Каравелла", как оплот свободы и цивилизации - какой-то вежливый иностранец поспешил нам навстречу и подобрал наши тесемки - и мы ввалились еврейскими цыганами в салон, заполненный красными, желтыми и синими иностранцами, которые непрерывно говорили по-английски, как птицы.
В таком виде мы прибыли в Израиль, который я представляла себе как гористое и храброе место - и сели на абсолютно ровной поверхности, без единого холмика на горизонте, где на фоне встающего малинового солнца в каком-то банном пару клонились подозрительные пальмы. Я ничего не поняла. Потом нас повели в залы ожидания, где в соответствии с некоей табелью о рангах - насколько я уловила, по сионистским и академическим заслугам заставили ожидать разное количество часов, причем я попала в самый конец и сзади меня были только грузины. Это я уже поняла. Мама, как заговоренная, повторяла одну фразу: "пропали наши вещи". Она, пережившая империалистическую, гражданскую и вторую мировую, социалистическую революцию и царские погромы, тридцать седьмой год и дважды сидевшего отца теперь сломалась на этом багаже. Во внезапном приступе живучести я вскочила и побежала лаяться с чиновниками, надеясь выбить чего-нибудь погористее, но, конечно, сломалась, и, расколовшись, подписала на себя какой-то донос на незнакомом языке и векселей на сумму 1 млн. долларов, что скрыла от мамы. Потом нас два часа везли по очень плоскому шоссе, обнесенному колючей проволокой, за которой цвели апельсины - и когда мы прибыли на отведенную нам плешь и повалились на койку, я тут же увидела свой первый сон: меж зеленых шелковистых берегов канала "Москва - Волга", по очень синей воде шел белый пароходик, почти касаясь бортами берегов; я стояла на верхней палубе и трогала босой ногой теплые доски. Проснувшись, я поняла, что если я не буду писать - я погибла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Автобиография»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Автобиография» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Автобиография» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.




![Маргарет Тэтчер - Автобиография [litres]](/books/395549/margaret-tetcher-avtobiografiya-litres-thumb.webp)