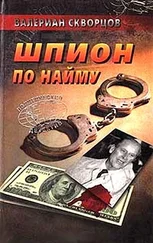Летом 1945-го, когда Шлайн-старший вышел в Австрии к своим, на нем лежало бремя двух обвинений. Плен и происхождение. К использованию как побывавший во вражеских лапах непригодный и еврей, а значит - космополит. После пяти лет допросов "тройка" судила его за то, что он вырвался из плена живым. Вещими оказались слова завербованного гестаповца: "Придет день победы, вашей или нашей, не важно, и нас обоих объявят предателями". Сталинский приговор подтвердил прогноз: 15 лет тюрьмы. Павел Шлайн вошел в камеру на Лубянке, когда вторая мировая война ещё продолжалась на Дальнем Востоке, и вышел по реабилитации, когда развертывалась ещё более затяжная и дорогостоящая, холодная.
Девять лет и семь месяцев Ефим Шлайн считался сыном эсэсовского агента. Его матери, жене эсэсовца, сказали, что муж бросил её и предал родину. Их не сослали потому, что перевербованный гестаповец работал в Штази и, приезжая в Москву, спрашивал о семье человека, спасшего ему и его семье жизнь. Немцу отвечали, что Павел Шлайн выполняет задание за рубежом и разрешали видеться с его женой и сыном. На существование они зарабатывали тем, что бродили в стужу, зной и распутицу по подмосковным проселкам с деревянной фотокамерой, делая семейные портреты колхозников...
- На моем месте, Бэзил, разве ты не подал бы заявление с просьбой о приеме в высшую школу ка-гэ-бэ после института иностранных языков? спросил Ефим.
- Не знаю, - сказал я. - Это так странно, Ефим... Я выполняю свою работу, то есть стал тем, кто есть, по той простой причине, что так сложилось. Знаешь, как вода... Куда наклон, туда и течет. Отец стучал степ в ресторанах, нанимался к китайским генералом, врачом восточной медицины подвизался... Ему все равно было чем заниматься. Да и мне потом... Семью выгнали из России до моего рождения. Мне не приходило в голову кому-то доказывать, что я русский. А если бы меня усыновили китайцы? Если следовать твоей логике, я должен был бы после переезда из Бангкока в Кимры баллотироваться на пост кимрского мэра, чтобы доказать, что я достойный и честный кимровец, а не кто-нибудь еще. Так, что ли? Знаешь, как-то не хочется... А после твоего рассказа, признаюсь, в особенности.
- А что если мне уйти в отставку, завести собственное сыскное бюро? Пойдешь ко мне работать? - спросил он.
Мы сидели перед тарелками с остывавшей снедью. Я не ел с утра, только выпил кофе и сжевал круассан, принесенные в поезде кондуктором. Четыре кружки пива на пустой желудок - не удовольствие, в ресторане народ курил беспрестанно, разговор состоялся совсем не веселый. Другими словами, зачем нас принесло в это место со своими заботами? Ни поели, ни поговорили о деле.
И я ответил:
- С тобой ни украсть, ни покараулить, Ефим. Ты зачем меня сюда позвал? Желудочный сок свернулся. Ничего не едим. Дело ждет, но и про него забыли... Чего там сыскное бюро! Плюнем на все и забомжуем, Ефим! Возвращай ксиву дипломатической почтой в контору, так, мол, и так, обрыдло, не вспоминайте меня, цыгане, прощай мой табор, я спел в последний раз... Или давай стенать на судьбу, или начнем есть и потом поговорим о деле... У меня подол новостей.
- Еще четыре дня назад, когда ты их собирал, Москва в них не нуждалась. Тебе не приходило в голову, что ничего не изменилось со времен отцов и что наша работа и сегодня, в сущности, зависит от капризов и расчетов случайных людей?
- Ефим, ты что же... Ефим, ты сворачиваешь операцию? - спросил я, почувствовав, что мы почти предаем в этот момент Усмана, кореянку-танцовщицу, разорванного взрывом подвыпившего приставалу к ней, Ляззат, наконец, да и все, за что мне сторицей досталось в минувший месяц и, может быть, за всю жизнь до этого. Я вроде бы забыл, что работаю только ради денег. Я вдруг осознал, что по-настоящему ненавижу Второго и то, что он тащит с собою в мою жизнь - Ибраева, Жибекова, Шлайна и меня самого, каким я стал.
Без аппетита мы съели остывший суп с мелковатыми пельменями, холодную рыбу под острым соусом, две тарелочки рубленой говядины и свинины, куриные крылышки и выпили ещё по кружке "Будвайзера".
Я всегда считал вредным возвращение в прошлое. Могу представить, в какую ипохондрию я впал бы, принявшись посещать места, скажем так, боевой славы своего отца. Ханойский ресторан "Метрополь", где он выступал с симфоническим оркестром из харбинских балалаечников, сайгонскую гостиницу "Палас", на террасе которой пел куплеты, мало ли мест, включая вертолетный аэродром, под бетонкой которого закатали его могилу в манильском пригороде... На своих полях сражений он бился за выживание, не рассчитывая ни на кого и на Россию в особенности. Он сам себя считал Россией, где бы ни оказывался. Вот и все... Не следовало Ефиму назначать наше свидание в гостинице "Гамбург" по той же причине. Вот и все...
Читать дальше