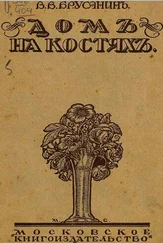Осмотрелся. Дверь заперта. На окнах опущены шторы. Опять прошептал:
— Сашу могли бы посадить в тюрьму. Его также долго бы продержали! Быть может, что-нибудь хуже сделали бы с ним!
Голова, подхваченная вихрем самых невероятных предположений и опасений, закружилась. События перепутались. Он совершенно забыл, что Сашу уже нельзя подвести этими письмами… Саша давно умер!
Сбросил с плеч плед и закружился по комнате со связкою писем, не зная что делать…
«Надо спешить. Надо спешить сжечь все эти письма. Что будет, если они найдут письма Саши? Они установят нашу связь. Если найдут письма они, подозрительные без раздумья и глубокомысленные без мудрости, они спросят: „Кто передал вам письма Александра Зейкина?“ Подозрение падёт на тех, нужных людей, и холодный круг цепи расширится и захватит новых людей».
Николай Николаич прошёлся по комнате, постоял у окна, прижал к себе письма и подумал: «Если взять их и аккуратно прибить к нижней доске ящика? Они придут, будут шарить в ящиках и не заметят писем… А если найдут? Они установят мою связь с Сашей, а это важно для них… Они спросят: „Знаком ли я с ним?“ И я должен буду отречься от друга. Совершится то, что уже было в доме Каиафы. Спросили апостола Петра — знает ли он Христа? И он ответил: „Я не знаю этого человека“. И пропел петух. И опять спросили его, и опять он отрёкся… И опять пропел петух»…
Долго ходил по комнате, курил папиросу за папиросой и не знал, что сделать с письмами.
«Важно, чтобы они не установили мою связь с Сашей… Возьмут меня, возьмут и Варю, и Лидию Петровну, и Ивана… Это невозможно»…
Подошёл к печи, ощупал её, заглянул внутрь.
«Глаша забыла затопить печь… Принесла дров и не зажгла подтопку».
Позвонил и долго нажимал кнопку звонка. Глаша явилась не сразу.
— Что, барин?
— Печку, печку не затопили!
Изменилась в лице Глаша, вскрикнула:
— Извините, барин, забыла… Старая барыня позвали меня. Поясница у них болит, надо помазать…
— Разве тётя ещё не спит?
— Нет.
— А сколько времени?
— Двенадцатый в начале.
Ярко вспыхнули в печи поленья, озаряя раскрасневшееся лицо Глаши, её босые ноги, руки… Затрещали дрова, зашипели. Глаша ушла.
Он запер за нею дверь, придвинул к печи стул и сел. Хотел бросить письма в печь, но раздумал… Захотел заглянуть в них. «Только надо спешить, а то придут они, подозрительные без раздумья и легкомысленные без мудрости»… Остановился на одном письме. Саша вспомнил о его кабинете… там, на Моховой… «Как это странно».
«Помнишь, когда мы сидели в последний раз у твоего камина, — писал Саша, — а Влад-в развивал свою теорию успокоения души ради подчинения чувства рассудку, мне думалось, что Влад-в мне чужой. Покой души — ведь это покой могилы!.. Я в тюрьме, я заживо погребён, а душа моя не знает покоя. Когда мы сделали всё, что хотели, ты думаешь — душа моя успокоилась? Нет! Вот это и хорошо, мой друг, если удастся воспитать в себе душу, для которой возможно только одно желание — бури жизни».
И это письмо должно погибнуть. Письмо — гимн душе, которая ищет бури. В одном из последующих писем, в кратком письме Саша бичует себя за слабость.
«Бессонные ли ночи, ежедневные ли допросы то у прокурора, то в охранке, но нервы мои истрепались. И душа моя точно увяла. Может быть, мне вдруг по неизъяснимой причине захотелось вернуться к жизни… Не знаю почему, но мне сегодня грустно»…
Прочёл Николай Николаич отрывок из письма и злорадно усмехнулся: «И его душа пошатнулась, и он, крепкий, не устоял». Впрочем, эта тайная радость была временной изменой товарищу. На маленьком клочке бумаги прочёл:
«Что меня повесят, в этом я не сомневаюсь, а они как будто чего-то боятся. Говорят, завтра утром нас перевезут в крепость… Я думаю, что так и будет. Так они делают. Сегодня мне дали вкусный обед. Это перед смертью-то! После обеда ко мне заходил попик, тюремный ходатай за души преступные. Бормотал он какие-то тексты, а я в ответ ему — молчание. Сегодня в ночь нас казнят. Я понял это из смысла текстов попика… Он отпускал мне грехи. Их месть сравняла их со мною, и я их признаю. Хотелось бы уважать, но они бьют людей связанными. Я буду смеяться над ними, пока они будут меня вешать. Ибо душа моя закалена в бурях жизни. Их душа испугана этими бурями… Она — опустошённая душа»…
Вспыхнули письма Саши… Тонкие, истлевшие листочки коробятся, корчатся на угольях как живые, как будто им больно умирать. Некоторые листочки покраснели, точно вспыхнули румянцем. Мелькнул почерк Саши: две-три строки какого-то письма ясно обрисовались на бледно-красном фоне перегоревшей бумаги. Как будто глянули в глаза Николаю Николаичу, — глянули и простились с ним навсегда… Побледнели, а потом потемнели покоробленные листки перегоревшей бумаги. Тёплое дыхание печи подхватило их и унесло в трубу, к тёмному небу.
Читать дальше