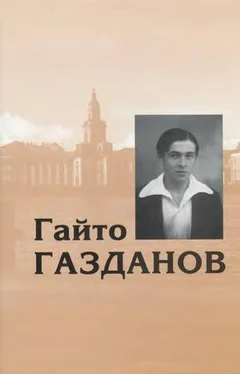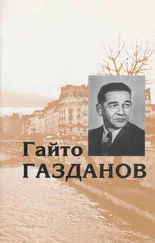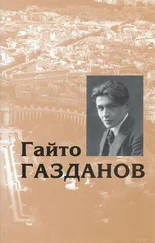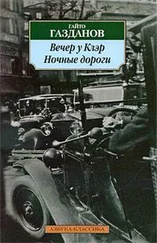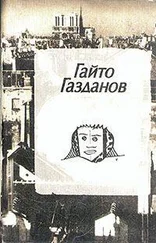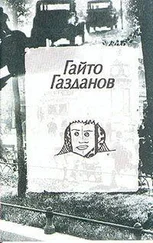…выход двойного, роскошно изданного, номера «Чисел»… – Речь идет о № 2/3 за 1930 г. журнала, издававшегося в Париже с марта 1930 г. по июнь 1934 г. Вышло десять номеров «Чисел», первые четыре – редактировались поэтом и критиком Николаем Авдеевичем Оцупом (1894–1958) и Ирмой де Манциарли, последовательницей Блаватской (первое время деньги на издание «Чисел» давал французский теософский журнал «Cahiers de l'etoile»), а остальные шесть – одним Оцупом, который, после ухода госпожи де Манциарли, добывал деньги у разных меценатов. «Уже не раз отмечалось, как писали „Современные записки“, что такого изящно и любовно изданного журнала за рубежом еще не было» (1931. № 46. С. 508). Этот уникальный журнал, открытый прежде всего (хотя и не только) для молодых литераторов, дал новый импульс русской литературе за рубежом.
Газданов печатался в «Числах», но это не препятствовало его отстраненно-иронической оценке своих молодых коллег; он был с ними, один из них, и все-таки, как всегда, сам по себе. Как и они, он принадлежал к так называемому «незамеченному поколению» (термин B.C. Варшавского), но не принадлежал к «Парижской ноте», «идеологом» которой был Г. Адамович, хотя и имел с нею немало пересечений.
Лидия Давыдовна Червинская (1907–1988) – поэтесса, с 1922 г. в Париже. Одна из немногих, кто «программно», органически вписался в «Парижскую ноту». В эссе именно о ней А. Бем дал описание приемов этой «школы»: «Приглушенные интонации, недоуменно-вопросительные обороты, неожиданный афоризм, точно умещающийся в одну-две строки, игра в „скобочки“, нарочитая простота словаря и разорванный синтаксис (множество недоговоренных и оборванных строк, обилие вводных предложений – отсюда любимый знак – тире) – вот почти весь репертуар литературных приемов „дневниковой поэзии“» (Меч. Варшава, 1938. 1 мая). Автор изданных в Париже сборников «Приближения» (1934), «Рассветы» (1937), «Двенадцать месяцев» (1956). (См. подробнее: Коростелев O. A. «Парижская нота» // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья 1918–1940. Периодика и литературные центры. М.: РОССПЭН, 2000. С. 300–303. «Парижская нота»: материалы и исследования. Литературоведческий журнал. М.: ИНИОН РАН, 2008. № 22.)
Владимир Алексеевич Смоленский (1901–1961) – поэт. В эмиграции с 1920 г. Близок к группе «Перекресток», ориентированной на «неоклассицизм» В. Ходасевича, но и не чужд «Парижской ноте». В Париже вышли его поэтические сборники «Закат» (1931), «Наедине» (1938), «Собрание стихотворений» (1957), «Стихи» (1957–1961) (1963).
Василий Семенович Яновский (1906–1989) – врач, прозаик; наиболее известны его мемуары «Поля Елисейские. Книга памяти» (Нью-Йорк, 1983). В эмиграции с 1922 г. В его рассказе «Тринадцатые» (Числа. 1930. № 2), написанном в характерной для писателя натуралистической манере, речь идет о несчастных людях «тринадцатых» в этой жизни, т. е. обыгрывается «символика неудачи, несчастья», обыкновенно связываемая с числом тринадцать. Газданов высмеивает эстетическую беспомощность и (на его взгляд) претенциозность Яновского. Заметим, что и В. Набоков отзывается о Яновском (его романе «Мир», 1931) очень резко: «Скучный, шаблонный, наивный, с парадоксами, звучащими как общие места, с провинциальными погрешностями против русской речи, с надоевшими реминисценциями из Достоевского» (Сирин В. Волк, Волк! // Наш век. Берлин. 1932.3 1янв.).
Даже об Иванове седьмом и то выражались в единственном числе. – Тут Газданов обыгрывает суждение в рассказе И А. Бунина «Надписи» (1924) об Иванове седьмом, т. е. обычном человеке, любящем увековечить свою память надписью на колонне, дереве, скамейке и т. п. Бунин, в свою очередь, перефразирует слова из рассказа А. П. Чехова «Жалобная книга» (1882): «Сию станцию проезжал Иванов седьмой».
…«тринадцатые» – звучит гордо! – обыгрываются слова из знаменитого диалога Сатина (4 акт) в пьесе «На дне» (1902), «Человек – это звучит гордо!», ставшие крылатым выражением.
…пишет Е. Кельчевский в своем романе «В лесу». – Е. А. Кельчевский (7-1935) – прозаик «незамеченного поколения». Первый его роман «После урагана» (Париж, 1927) с предисловием А. И. Куприна эмигрантские критики (Г. Адамович, Ю. Айхенвальд, М. Осоргин, П. Пильский) одобрили. Газданов не одинок в своей критической оценке его третьего романа «В лесу» (Париж: Изд. Е. Сияльский, 1930). «Книга недурна», пишет Г. Адамович, но «непоправимо провинциальна, и хоть в ней говорится о послереволюционных временах, впечатление от нее остается такое, будто ничего в мире за последнюю четверть века не произошло, и не изменились ни чувства людей, ни их ощущение жизни, ни их отношение к литературе, от которой они по-прежнему требуют обстоятельных, мерно развивающихся романов <���…> с завязкой, изложением и развязкой, приводящей к счастливому бракосочетанию влюбленных героев.» (Последние новости. 1930. 25 сент. № 3473. С. 3). В романе идет речь о русской рабочей артели «бывших» (генерала, прокурора, помещика и т. д.), живущей в лесу, недалеко от Парижа. Один из них – недоучившийся агроном и инженер, несостоявшийся актер, бывший ротмистр, после долгой разлуки встречает свою бывшую невесту Женю в Париже, их вновь тянет друг другу, но героя смущает темное прошлое Жени. Он скрывается в лесной артели, но Женя находит его, пытается покончить с собой от несчастной любви, в результате герой все ей прощает, далее ожидается свадьба.
Читать дальше