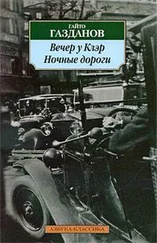Гайто Газданов
•
Панихида
Это было в жестокие и печальные времена немецкой оккупации Парижа. Война захватывала все большие и большие пространства. Сотни тысяч людей двигались по замерзшим дорогам России, шли бои в Африке, взрывались бомбы в Европе. По вечерам Париж погружался в ледяную тьму, нигде не горели фонари и не светились окна. Только в редкие зимние ночи луна освещала этот замерзший, почти призрачный город, точно созданный чьим-то чудовищным воображением и забытый в апокалипсической глубине времен. В многоэтажных домах, которые давно перестали отапливаться, стояла ледяная сырость. По вечерам в квартирах с плотно завешенными окнами зажигались стеклянные доски аппаратов радио и сквозь треск глушения раздавался голос: «Ici Londres. Voici notre bulletin d'information…» [1] «Говорит Лондон. В эфире наш информационный бюллетень…» (фр.)
Люди были плохо одеты, на улицах было мало народу, автомобильное движение давно прекратилось, по городу ездили в экипажах, запряженных лошадьми, и это еще усиливало то впечатление трагической неправдоподобности происходящего, в котором жила вся страна в течение нескольких лет.
В те времена я пришел однажды в небольшое кафе, в одном из предместий Парижа, где у меня было свидание со случайным знакомым. Это было вечером, лютой зимой сорок второго года. В кафе было много народа. У стойки хорошо одетые люди — шарфы, меховые воротники, выглаженные костюмы — пили коньяк, кофе с ромом и ликеры, ели бутерброды с ветчиной, которой я давно не видал. Я узнал потом, чем объяснялась эта ветчина, этот коньяк и все остальное: завсегдатаями кафе, в которое я случайно попал, были русские, занимавшиеся черной биржей. До войны, в мирные и сытые времена, большинство этих людей были безработными — не потому, что не находили работы, а оттого, что не хотели работать из какого-то непонятного и упорного нежелания жить так, как жили все другие: ходить на завод, снимать комнату в плохой гостинице и получать жалованье раз в две недели. Эти люди жили в состоянии хронического и чаще всего бессознательного бунта против той европейской действительности, которая их окружала. Многие из них проводили ночи в деревянных бараках, сколоченных из досок и мрачно черневших на лохматых пустырях парижских окраин. Они знали все ночлежные дома Парижа, скудный желтый свет над железными кроватями огромных дортуаров, сырую прохладу этих мрачных мест, их постоянную кислую вонь. Они знали Армию Спасения, притоны и нищие кафе place Maubert, куда сходились собиратели окурков, оцепенелый сон на скамейках подземных станций метро и бесконечные блуждания по Парижу. Многие изъездили и исходили французскую провинцию — Лион, Ницца, Марсель, Тулуза, Лилль.
И вот после того, как немецкая армия заняла больше половины французской территории, в жизни этих людей произошли необыкновенные изменения. Им была дана внезапная и чудесная возможность разбогатеть — без особенных усилий и, в сущности, почти не работая. Немецкая армия и учреждения, связанные с ней, покупали оптом, не торгуясь, все товары, которые им предлагались: сапоги и зубные щетки, мыло и гвозди, золото и уголь, одежду и топоры, провода и машины, цемент и шелк — все. Эти люди стали посредниками между немецкими покупателями и французскими коммерсантами, продававшими свои товары. И как в арабской сказке, вчерашние безработные разбогатели.
Они жили теперь в теплых квартирах, из которых уехали их бывшие хозяева, оставив картины непонятного содержания, хорошие ковры и удобные кресла. Они носили на руке золотые часы с золотыми браслетами, на их пальцах были кольца с настоящими драгоценными камнями. У каждого из них в прошлом была сложная жизнь — города, дороги и улицы в различных странах, огромные расстояния, которые они прошли пешком, — и вот теперь они дошли до того, о чем никогда не могли мечтать.
Я познакомился сначала с одним из них, Григорием Тимофеевичем, худощавым немолодым человеком с глубоко сидящими глазами и острым подбородком. Я встретил его у моего друга, бывшего певца, выступавшего в свое время в кабаре и кафе. Но в те времена, когда я его знал, все это отошло в прошлое. Он был тяжело болен чахоткой и редко вставал с кровати. Но каждый раз, когда я приходил к нему, он снимал худыми руками со стены огромную гитару, звучавшую, как рояль, и пел своим глубоким голосом, на котором удивительным образом совершенно не отразилась его болезнь, всевозможные романсы и песни — и меня поражало богатство его репертуара. Григорий Тимофеевич знал его с детства, оба они были родом из какого-то маленького города под Орлом. Григория Тимофеевича никто, кроме меня, никогда не называл по имени и отчеству, и был он всегда Гриша; или Гришка. Певца, наоборот, никто не называл по имени, все звали Василием Ивановичем.
Читать дальше