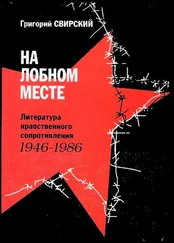А может, в красном углу выщербленный осколками деревянный пропеллер "кукурузника", который вошел, неожиданно для всех стратегов мира, в историю большой войны.
...Если б ударило меня по голове бревном, вряд ли бы так ошарашило, как сейчас.
Дом бывшего инженер-капитана советской армии Конягина был весь, от пола до потолка, увешан... иконами. Справа, в светлом углу, икона нерукотворного Спаса. Самая популярная на Руси икона. Во всех деревнях видел. Голова Спасителя с золотым нимбом. Перед ним горит синим огоньком лампадка. Распятие на темно-вишневом бархате тоже не редкость. А поодаль торжественное изображение Георгия Победоносца, что ли? На белом коне, со щитом. На щите желтое солнце, круглое, улыбающееся, как в детской сказке. Святой воин в розовых сапожках и в красном плаще, который развевается за ним, как водится, поражает копьем змея. Впрочем, не змея. Какую-то невзрачную бородатую фигуру в черных доспехах.
Над головой воина летящий ангел в белом пытается надеть на него золотую корону. Тихоходный, видать, ангел. Никак не догонит.
А на втором плане серовато-синие городские стены с башенкой, из-за стен выглядывают перепуганные горожане. Один даже мчит по лестнице прочь.
Ч-черт побери, не сей ли рыцарь был главным героем русских черносотенцев, пожелтелые издания которых я листал в Ленинской библиотеке? С современными последователями этого святого у меня знакомство не шапочное. Годами продолжались баталии и на улицах, и в Союзе писателей, и в ЦК партии...
Неужто героем Конягина стал любимый Победоносец "Союза Русского народа"? Я даже присвистнул. "Не разругаться бы на прощанье..." Впрочем, возможно, черная сотня вкладывала в Георгия Победоносца СВОЕ содержание. Подбрасывала под его копье СВОЕГО змея...
Возле следующей иконы я задержался надолго.
Икона эта была небольшой и, похоже, древней. Но не темной, как обычно, а какой-то яростной, набатной.
На ней был изображен по пояс архиерей или святой в архиерейском белом облачении с черными крестами. Лицо выписано тщательно и заставляет вглядеться в него с некоторым изумлением. Это не изможденное лицо аскета, не византийское, как водится, а - простоватое лицо русского мужика с добрыми участливыми глазами. Глаза Иван Яка, когда он улыбается... С него будто и писали. Да и лицо похожее видел. На Енисее. Парфен с красноярской пристани.
Что создает тревогу? Конечно, фон. Фон такой, словно кто-то за мужичьими плечами "красного петуха" пустил. Вот откуда набатный дух. Огненный цвет вокруг мужика, киноварный. Горит икона. В пламени стоит мужичонка в странной для него архиерейской одежде и с золотым нимбом над головой. А вокруг, по краям иконы, в цветных квадратиках биография мужицкого архиерея, что ли?
Тут я был готов сказать себе, что инженер Конягин просто-напросто собиратель древних икон. Вроде Солоухинской компании. Встречался я с такими... Рыщут люди по деревням, копаются в руинах монастырей, сводят с икон черную копоть. Приглашают гостей на "смотрины".
Но... синий огонек лампадки горел перед головой Спасителя. Явно не только собиратель...
В эту минуту щелкнул замок, и вошел инженер Конягин в своей потертой кожанке. Протянул мне единственную руку, воскликнул: "Сколько лет, сколько зим!" и еще что-то.
Я пожал его жесткую, как щепа, ладонь, а потом в инстинктивном порыве обнял его. Глаза, чувствую, стали влажными. Не сразу пригляделся. Невысокий, тощий, нервно говорливый. Пустой рукав вложен в карман кожанки... И то сказать, не виделись тридцать лет. С февраля сорок второго, последнего года нашей жизни, как думалось.
Хочу что-нибудь сказать, не могу.
Похоже, жизнь не щадила нашего инженер-капитана! Морщин вокруг желтых глаз, как трещин на стекле от камня или пули - густо-густо. Складки в углах рта глубокие, темные. Резко выделяются на худом, костистом лице, болезненно-сером, измятом и, пожалуй, недобром. Вот только бугристый лоб остался прежним. Вызывающим. Конягинским...
Дорог мне человек, до слез дорог, а - о чем спросить? Ведь не знаю о нем ничего. Ну, совершенно ничего. Здоров ли? Женат ли? Есть ли дети? Живы ли родители? Не угодил ли тогда в тюрьму? Ничего не ведаю...
Молчание, чувствую, становится тягостным.
- Что за огненное чудо? - спросил я об иконе, возле которой стоял. Какого века? Святой, а лицо мужичка...
Конягин засиял, словно я его одарил чем-то. Сверкнул желтыми белками глаз.
- Не узнали? Господин Великий Новгород! Пятнадцатый век! Никола-Угодник! Горит и не сгорает. - И понесся "конягинскими оборотами". Поелику вся Русь перед Николаем-Угодником веками на коленях простаивала - в беде первый заступник. Русский люд к нему лепился, как мог, почитал: все именем Николы названо: посады Никольские, соборы Никольские, монастыри Никольские, а беды русской не избыть доселе. Потерянная наша воля, господин Великий Новгород, вот что это!..
Читать дальше