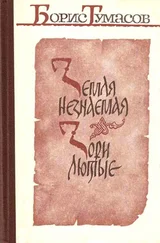Художественным контрапунктом всех книг Зайцева является Жизнь и Смерть человека вообще. Этот «человек вообще» показывается нам не в заботах житейских, мы не всегда знаем, добравшись до последней страницы той или иной новеллы, кто он по роду занятий, где служит, – для писателя-лирика это не имеет значения. Люди из зайцевской России просто живут, всяческие обстоятельства земные их соединяют и разлучают, некоторые из них уходят из жизни – уходят безбоязненно, спокойно, исполненные смирения и мудрого понимания естественной, предопределенной неизбежности конца всего сущего. Как заметил К. Чуковский, они, умирая, «при этом еще улыбаются: ах, как приятно таять!» Зайцев, как никто другой, философски передал нам, читателям, поэзию бытия человека и его ухода, умирания – в противовес своим современникам Л. Андрееву и С. Сергееву-Ценскому, глубоко раскрывшим трагизм человеческой жизни и смерти. Во всю – немалую! – силу своих талантов они показали, как неизбежность конца, неотвратимость ухода порождают вседозволенность, приводят подчас к необузданному разгулу страстей, в огне и вихрях которого многие сгорают. Земные люди, они и страдают, и радуются, и гибнут здесь же, на земле, не помышляя ни о чем другом.
У Зайцева его герои, казалось бы, тоже живут и действуют в земных обычных условиях, и вместе с тем есть у каждого из них свой микрокосм, отрешенный от конкретного быта, от по-вседневья – как бы второй глубокий план, возникающий в раздумьях наедине с собой. («Разное умещалось в нем одновременно, – замечает Зайцев об одном из своих героев, – как бы жило в слоях души на разной глубине».) Благодаря этой своей особенности они чувственно, эмоционально сливаются с природой, становятся, по воле автора, ее органичной частью, но мыслят себя в надмирном пространстве, где они возвышенно любят и светло страдают, наслаждаются праздниками жизни и умиротворенно приемлют свои юдоли и саму смерть. Неспроста критики – современники Зайцева – единодушно отмечали в его прозе пантеистическое мироощущение и мистицизм, укрытые в прекрасную поэтическую оболочку. Но с годами мистицизм все более пробивал эту оболочку, и вот уже Зайцев сам вынужден был заметить: «Вместо раннего пантеизма начинают проступать мотивы религиозные – довольно еще невнятно („Миф“, „Изгнание“) – все же в христианском духе. Этот дух еще ясней чувствуется в первом романе „Дальний край“, полном молодой восторженности, некоторого наивного прекраснодушия – Италия вносит в него свой прозрачный звук. Критик назвал бы „Дальний край“ романом „лирическим и поэтическим“ (а не психологическим)». К этой же поре относится его пьеса «Усадьба Ланиных», «с явным, – как утверждает Зайцев, – оттенком тургеневско-чеховского (всегда внутренне автору родственного), и также с перевесом мистического и поэтического над жизненным».
Еще одна примечательная особенность Зайцевеких произведений: в них нет отрицательных персонажей. Есть герои, не вызывающие симпатий у одних читателей, но находящие понимание, сочувствие, поддержку у других. Кто-то осудит страсти и беды Аграфены, попытку самоубийства студента Бенедиктова или бедолажную жизнь Авдотьи по прозвищу «Смерть», а кто-то решит все же разобраться, что их такими взрастило и что выстроило их судьбы именно так, а не иначе. И, наверное, большая правда у вторых – у размышляющих, у неравнодушных, а не у тех, кто упрямо задержался на позициях прямолинейной хулы и бескомпромиссного неприятия такой жизни, не пытаясь проникнуться сочувствием, состраданием, не говоря уже о том, чтобы возвыситься до мысли о разрушении зла, уничижающего человека. Прав будет тот, кто придет к выводу, читая рассказы Зайцева, что он художник-миротворец, что его герои чаще всего люди, не приспособленные к активной жизни и борьбе. Вот и в романе «Дальний край» попытались они проявить себя в большом и важном – и потерпели крах.
Мы постоянно встречаемся у Зайцева также и с тем, что его тихие восторги и светлые скорби глядятся в зеркало природы. На дворе солнце, в небе россыпи звезд, весна разбушевалась – и душа человека распрямляется, веселится, ликует, любит до самозабвения: возвышается. Но вот явилась хлипкая осень, потухли звезды, мокрый туман застлал поля, ветрище зло треплет деревенские непрочные крыши – и замкнулись сердца людей, напитались хмурью, наполнились скорбью, затаились в ожидании света и тепла. Таковы у Зайцева злые, недобрые сумерки в новеллах «Мгла» и «Волки», слякотная, промозглая пора в «Черных ветрах», в «Госте», когда «тускл и скорбен месяц», когда всюду «бездонный траур осени».
Читать дальше