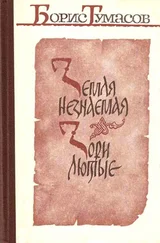Потом он ушел в дальнюю комнату дома – старого особняка. Видимо, это была спальня барышень, обращенная в какое-то кабаре. В окно виднелся снег, синеющий рассвет, деревья сада.
Голова у него кружилась. Он сел в кресло, ему захотелось заплакать, он почувствовал всю ложь, тоску и. мучение своей теперешней жизни.
«Неужели это все, неужели все кончается? – думал он. – Неужели я гублю и себя, и ее, и все то, что было прекрасного в нашей жизни?» Ему показалось, что он безумец, сумасшедший, расточающий богатство, доверенное ему в скромной церкви, перед алтарем. Неужели не увидеть ему рассвет тихим и чистым, как встречал он его в деревне, читая Соловьева, как бывало это в весенней, милой Москве его молодости?
Петя встал, оделся и уехал. Извозчик вез его по пустым улицам, и ему было стыдно старика извозчика, стыдно церквей, где звонили к заутрени Великого поста, стыдно рабочего народа, попадавшегося на пути.
Дома он прошел прямо в комнату Лизаветы. Она лежала на постели, без дурацкого костюма. Знакомый пробор на голове, как у девушки заплетенные косицы. Она непохожа была на накрашенную танцовщицу, прыгнувшую на колени господину в усах. Она тихо плакала.
У Пети остановилось сердце, он подошел, взял ее за руку и хотел поцеловать. Но Лизавета еще сильней забилась и оттолкнула его. Она обернулась, лицо ее было искажено ненавистью и страданием.
– Уйди, – сказала она глухо. – Пожалуйста, уходи! Потом застонала, упала в постель и крикнула:
– Все пропало. Слышишь? Все пропало!
XLVII
Три дня продолжалось мучительное состояние, полное слез, тоски, страданий. Много надо было перемучиться и отплакать, чтобы смыть пустоту, ничтожество жизни последнего времени.
Сначала Лизавета, в припадке бурного отчаянья, решила, что уйдет от Пети. Были минуты, когда он верил этому. И так как главным виновником считал себя, то терзался вдвойне. Он казался себе ничтожеством, дрянью, неспособной ни на что.
Лежа на диване, думал, что лучше бы не жить, пустить себе пулю в лоб. Воображение разыгрывалось. Он представлял себе, что уезжает в деревню, берет дедушкину двустволку, которую помнит с детства, и уходит в овраг – якобы стрелять ястребов. На берегу реки, над обрывом, садится и, приставив дуло к груди, нажимает гашетку. Выстрел– на мгновенье он видит синее небо, падает навзничь с обрыва в воду, и на этом кончается презренная жизнь. Его радовало воображаемое горе Лизаветы.
Лизавета же фантазировала по-другому: она уходит от Пети. Петя женится, – ей непременно казалось, что на высокомерной немке, а она живет одиноко, в бедности. Распаляя свое воображение, она придумывала мелодраматические штуки; например, что Петя разрешает ей иногда приходить в гости, но с черного хода, и принимает ее в кухне.
Они чувствовали нервную необходимость друг в друге, как бы случайно заходили один к другому в комнату, и начинались бесконечные разговоры о том, кто как кого любит, и кто в чем виноват. Кончалось это слезами и смертельной усталостью. Наступала ночь, – но тогда они чувствовали, что не все еще договорено – и начинали снова.
Конец болезни обозначился тем, что на четвертое утро они проснулись обессиленные, и без мучительного желания объясняться.
Петя ощутил что-то кроткое, тихое в сердце. Здесь было сознание своей вины перед Лизаветой, жалость, сочувствие, любовь.
И когда он молча стал целовать ей руку, с разрывающимся от нежности сердцем, полным тоски – что вот она действительно могла уйти, бросить его в пустыне жизни, – Лизавета не оттолкнула его, вздохнула, погладила по голове. Это был первый проблеск солнца в те ужасные дни.
Вечером они сидели уже обнявшись, и Петя ласково целовал ее волосы. Они говорили мало, вполголоса, – о том, что нельзя дальше жить так. Вспоминали Италию, как хорошо было там вдвоем, и хотелось опять уехать куда-нибудь в благочестивое место, загладить хорошей жизнью прежнее.
Но пока ехать было нельзя. Подходила Святая, в апреле у Пети начинались государственные экзамены. Ограничились тем, что никого не стали принимать, никуда не выезжали.
Пете хотелось возложить на себя какую-нибудь епитимью. Несомненно, живи они в старые, наивные и душевные времена, они исповедывали бы свои прегрешения, молились бы и соблюдали посты.
Теперь же Петя лишь много работал, не пил и был особенно ласков с Лизаветой.
Весна в том году вышла ранняя и погожая. В половине апреля бульвары оделись зеленым пухом, зазеленели газоны. Часто Петя с Лизаветой ходили гулять под руку, и с каждым днем этой новой, как бы благоустроенной жизни Петя чувствовал себя покойней, крепче.
Читать дальше