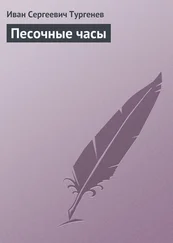Он истаивал в негромкости этого места, которое было сейчас «моим», как-то хорошо согласовывалось с моим настроением, с настроением Вальтера Занга, официанта из бирхалле «Песочные часы», восемнадцати лет от роду, не подлежащего призыву по причине увечья, мало, однако, его обременяющего и отнюдь не мешающего его успеху у девушек…
«Почему же этому Вальтеру не наслаждаться жизнью? Ну если уж так случилось, — уговаривал я себя, словно в том, что я живу жизнью Вальтера, было что-то предательское по отношению к прошлому, — если так вышло, что меня начисто отрезало, выбросило из моей собственной судьбы на эту землю, как зерно, унесенное вихрем, — почему же мне не прорасти здесь? Неужели лучше засохнуть, превратиться в пыль и развеяться по ветру? Неужели это требуется от меня? И кем?»
Но сегодня «роковые вопросы» касались меня так легко и беспечально, как маленький, пахнущий клевером ветерок, который шевелил мои волосы и заставлял мелко трепетать уже совсем желтые, но неопавшие листья молодой осинки над самой моей головой. Эта осинка показалась мне знакомой, словно именно она встречала меня у нас в Сокольниках, когда я вбегал со своим школьным портфельчиком во двор и сильно хлопал калиткой, чтобы дать знать о своем появлении. Да, мы жили тогда в Сокольниках, в старом деревянном доме. Теперь эта осинка, наверное, совсем взрослое дерево, если она уцелела. Боже мой, кто знает, кто и что там уцелело? И Вальтеру Зангу незачем думать об этом. Особенно сегодня.
Почему же именно сегодня мне так хорошо? От разговора с соседом? От вчерашнего? Я стал вспоминать вчерашнее. Оно так безоговорочно принадлежало Вальтеру Зангу, что не терпело никакого вмешательства со стороны.
Итак, личные дела Вальтера Занга… Что мне было известно о девушке из парикмахерской на Бауэрштрассе, когда вчера, поступившись обедом, я подъехал туда на омнибусе? Да ничего. Я видел ее только однажды, когда я так неловко соскочил с велосипеда, что чуть не растянулся сам и едва не сбил ее с ног. Мы обменялись улыбками единственно по этому поводу. Она терла скомканными обрывками белой бумаги и без того чистое стекло витрины. Большой витрины, которая открывала внутренность маленькой парикмахерской. Я успел заметить, что там было всего два кресла и в тот момент занято только одно. Около него возился толстяк в белом коротком халате. Лица его не было видно: он склонился над клиентом. Ее отец? Муж?
Она была в синем рабочем халатике с засученными рукавами. Значит ли это, что она не мастер, а уборщица? И что, собственно, побуждает меня задавать себе эти вопросы? Девушка немного старше меня, волосы у нее такие же светлые, как мои, она носит короткую стрижку. И одета тоже совсем не как «истинно германская девушка». Даже окна она трет в туфельках на высоких каблуках, а из-под ворота халатика выглядывает кружевная блузка.
Но, конечно, не из-за всего этого я обратил на нее внимание, а из-за этой ее улыбки. На таком молодом лице было столько серьезности и какой-то тени, что даже улыбка не разогнала ее.
Но что же особенного в этом? Мало ли горестей может быть у молодой особы, когда идет война? Мало ли писем с черной каемкой разносят в своих кожаных сумках с клеймом «Германской имперской почты» почтальоны, вдруг ставшие центральной фигурой городской улицы?
Если бы лицо девушки было безоблачным при всех прочих данных, я бы не запомнил ее. Но я сам был неблагополучен. Разумеется, не такого рода неблагополучие я заподозрил, но даже всякое — привлекало меня. Я естественно чуждался счастливых людей, беззаботность меня отталкивала, бездумность вызывала легкое презрение.
«Что вы знаете о жизни и смерти, о горе и радости?»— думал я, глядя на какую-нибудь парочку на мосту.
Не потому ли мне запомнилось лицо девушки, не заплаканное, но как бы на грани слез, не убитое, но как бы омраченное. И улыбка не сняла этой омраченности. Нет, не сняла.
И вот только из-за этого я вчера отправился к той парикмахерской. Остановка омнибуса была совсем неподалеку, и я прошел полквартала, не торопясь и на все лады представляя себе, какой разговор может у нас произойти.
Я никогда не был стеснителен с девушками. То, что сейчас немного сковывало меня, так, самую малость, было не стеснительностью, а может быть, осторожностью. Но чего должен остерегаться Вальтер Занг?
Я толкнул дверь парикмахерской. Оба кресла были свободны. Давешний толстяк сидел на диванчике с газетой, которую он отложил при моем появлении.
Читать дальше