Потом был товарный поезд, пробное воровство пирожков у зазевавшейся торговки на станции, первое ограбление трех пьяных с целью достать обувь.
И наконец, долгожданная Москва, пеший бросок ночью через весь город в Марьину Рощу, долгие, почти до утра, поиски какой-то загадочной «хаты». Но вот как будто все, что нужно, найдено. Мы стоим на темной лестнице старинного деревянного особняка. От страшной усталости гудит в голове, ноги подкашиваются, и глаза закрываются сами собой. На лестнице пахнет уборной, кошками и щами. Валерка чиркает спичкой, читает табличку на двери «Георгий Анисимович Гладков. Зубной техник. Прием больных с 9 до 16. Выходной день — воскресенье».
Он видит мой недоумевающий взгляд и коротко бросает:
— Дядя, — и когда погасла спичка, добавляет: — Троюродный.
Имя, отчество и фамилия мне неизвестны. Посылки Валерке в колонию присылала какая-то Матрена Константиновна Голубкина.
Но вот и Валеркин дядя. Его появление я воспринимал, кажется, уже сквозь сон. Впустив нас в прихожую, дядя долго ругал за что-то Валерку, потом о чем-то расспрашивал меня, потом заставил нас переодеться и только после этого впустил на кухню и дал поесть. И хотя была глухая ночь, а квартира его находилась на втором этаже, дядя все-таки завесил окно тряпкой…
На вид Георгию Анисимовичу можно было дать лет сорок-пятьдесят. Это был мужчина среднего роста, упитанный, несколько обрюзгший. Тяжелая нижняя челюсть, крепкая шея, а главное, перебитый нос делали его похожим на ушедшего с ринга боксера. Как я узнал впоследствии, Георгий Анисимович в самом деле в молодости занимался боксом и даже выигрывал первенства в соревнованиях.
На фронт он, видимо, не попал по причине близорукости: сквозь дымчатого цвета очки с толстыми стеклами виднелись типичные для близоруких рано потерявшие цвет выпуклые, как у рака, глаза. Этими глазами он долго и внимательно рассматривал меня, пока мы сидели на кухне, и потом, когда ехали в такси через всю Москву на какую-то дачу в Люберцах. Я настолько устал от бессонных ночей, волнений последнего месяца, небывалой физической нагрузки, что и отвечал ему в полусне. И засыпал при каждом удобном случае. Кажется, в конце концов, он понял и оставил меня в покое.
Вторую половину пути я мирно спал, прислонившись к его плечу, и даже не слышал, как Валерка с дядей втащили меня, сонного, в дом и уложили на кровать. Проснувшись где-то в середине следующего дня, я увидел маленькую с ободранными обоями комнатку, коричневый от копоти потолок с разводами дождевых потоков и две кровати, на одной из которых спал я, на другой сидел еще не проснувшийся окончательно Валерка. В дверях стояло странное существо женского пола. Огромная, тучная фигура на толстых тумбах вместо ног, всаженная прямо в плечи голова с тремя подбородками, коротким и широким носом с проваленной переносицей, низким и тяжелым лбом, из-под которого, как мыши из норы, смотрели маленькие сонные глазки. Все нелепое сооружение венчалось копной рыжих волос, спадающих в беспорядке на едва прикрытые ночной рубашкой плечи. Заметив, что все проснулись, женщина спросила басом:
— Гладков за вас платить будет или как?
— Там сговоримся, — ответил Валерка, натягивая башмак. — Ты бы лучше поштевкать дала, не видишь, дошли?!
Женщина, постояв с минуту, медленно, как тяжело груженная баржа, повернулась и вышла. Заметив мой недоумевающий взгляд, Валерка усмехнулся:
— Не пугайся. На рожу она, верно, страшилище, но душа у нее добрая. Никогда нашего брата в беде не оставит. Через это и сама страдала не раз. Пошли что ли! Жрать охота — сил нет!
— А как ее зовут? — спросил я.
— Зови просто Голубкой, — ответил он. — А вообще-то она Голубкина. Матрена Константиновна Голубкина.
Так началась моя новая жизнь, полная самых невероятных противоречий. Жизнь, совершенно непохожая на прежнюю.
Раньше я никогда не остерегался и в любое учреждение заходил смело. Я был таким, как все. Разве что помоложе многих. Теперь меня ни на минуту не оставляло ощущение какой-то смутной вины перед людьми. Я никому не мог посмотреть прямо в глаза, не мог просто пройти мимо милиции. Мне казалось, что за мной постоянно следят. Это чувство не только не прошло со временем, — наоборот, день ото дня приобретало все более осмысленную остроту. В нем становилось меньше животного страха и больше обыкновенной осторожности. Это чувство можно было заглушить только вином.
Читать дальше
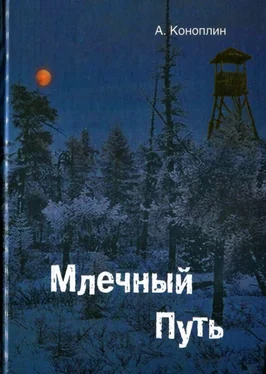







![Олег Данильченко - Имперский вояж - Из варяг в небо. На мягких лапах между звезд. Чужая война. Тропинка к Млечному Пути [сборник litres]](/books/389801/oleg-danilchenko-imperskij-voyazh-iz-varyag-v-nebo-thumb.webp)



