У Арачи узкий разрез глаз и широкие, как у Ивана Унаи, скулы. Вообще, они даже немного похожи. В Энмачи почти все жители находятся в дальнем или ближнем родстве.
— Говорят, что у моего прадеда было три жены и много-много детей…
Когда Арачи смеется, ее глаза становятся еле видными сквозь узкие разрезы.
— И еще он был маленького роста. Вот такой. Поэтому все Панкагиры такие маленькие.
Она лежит на шкуре, вытянувшись во всю длину, болтает ногами и грызет лепешку.
— А у тебя был прадед?
— Был. Наверное, был.
— Почему, наверное? Разве люди тебе ничего не рассказывали о нем?
— Какие люди?
— Жители твоего селения.
— Их было очень много. Я не успел всех расспросить…
— Сколько их было?
— Кого?
— Жителей.
— В три таких дома, как наш, уместилось бы все население вашего Илимпийского района.
Она тихо охнула.
— В нем было много этажей?
— Восемь. И шесть подъездов. Два подъезда почти целиком занимали военные с семьями.
— Твой отец был военный?
— Да.
— Говорят, твой отец погиб на фронте, а сам ты был вором. Это правда?
— Правда.
Она задумалась.
— Значит, то, что ты убил человека…
— Тоже правда.
Она замирает, сжавшись в комок, как от удара кнутом.
— А я думала, он врет. Нарочно говорит о тебе плохо.
— Кто «он»?
— Подожди… Ведь ты хороший, добрый… Моргунов говорил — честный.
— Врет Моргунов. Честных воров не бывает.
— Он сказал, ты справедливый.
— Не знаю…
Она мучительно искала какое-то оправдание преступлению, которое я совершил. Любовь в ее душе боролась с чувством презрения и негодования и постепенно изнемогала в этой борьбе. Если бы я принялся объяснять, как это случилось, начал бы оправдывать свой поступок, ее любви стало бы намного легче бороться. Но я не сделал этого. Не имел права да и не хотел. Жалости и снисхождения к себе я еще не заслужил.
Неожиданно лицо ее прояснилось, в глазах заблестели искры надежды.
— Я знаю… Нет, я думаю… Если ты убил человека, значит, это был плохой человек. Правда?
Она ищет мои глаза, стараясь хотя бы в них прочитать ответ, но все напрасно. Я сам себе судья, и я себя еще не простил.
И тогда она со страхом задает мне тот вопрос, который должен окончательно решить нашу судьбу:
— Скажи… когда ты вернешься домой… к себе в Москву… ты снова станешь вором?
— Никогда! — почти кричу я.
— Правду скажи. Не обманывай.
— Никогда! Слышишь? Никогда!
Она плачет. Она счастлива. Она прячет в моих ладонях залитое слезами лицо и повторяет: «Никогда, никогда, никогда…» Потом поднимает голову и зло смотрит в окно.
— Зачем он врет?
— Кто?
Она не отвечает, но я знаю, о ком она думает.
— Твой муж… Он куда-нибудь уехал сегодня?
Она вздрагивает и с минуту сидит неподвижно, нахмурив брови, закусив губу.
Сказка кончилась. В зале вспыхнул свет, и стали видны трещины на потолке, старые декорации, вылинявший задник из мешковины, зеленые грязные кулисы и чей-то раздавленный окурок у самой рампы…
С трудом удерживая слезы, Арачи перебирает пальцами свои косы, машинально отрывает одну за другой медные побрякушки и задумчиво бросает их в огонь. То, что было сегодня, вернее, вчера вечером и еще сегодняшней ночью, не повторится никогда. Будут встречи, будет еще много поздних вечеров и таких ночей, но сказки больше не будет. И не потому, что я вспомнил о Василии — рано или поздно о нем надо было заговорить, — просто обыкновенные сказки повторяются, а волшебные — никогда.
Арачи медленно одевается. Я молча подаю ей одежду и почему-то очень внимательно смотрю, что и как она надевает…
Сначала она надела меховые штаны и мужскую рубашку из грубого полотна, потом поверх рубашки — шелковую сорочку. На ноги — мягкие меховые чулки из шкуры молодого оленя, поверх которых — унты. Здесь, где морозы иногда достигают шестидесяти с лишним градусов, не выдерживает ни один материал. Даже романовская овчина деревенеет и лопается, и только верный олень даже после своей смерти продолжает служить человеку.
Когда надеты парка и шапка, и даже рукавички, она говорит:
— Василий уехал. Долго не вернется. В Туру за спиртом поехал. Еще сказал, что новое ружье купит. Прощай.
Значит, я напрасно разрушил нашу сказку. Но бесполезно теперь пытаться удерживать Арачи, бесполезно вставать у нее на пути, загораживать дверь. Она все равно уйдет.
— Я приду, — говорит она, — не бойся. Скоро приду. А сейчас пусти. Мне пора. Ты прав: нельзя забывать все на свете…
Читать дальше
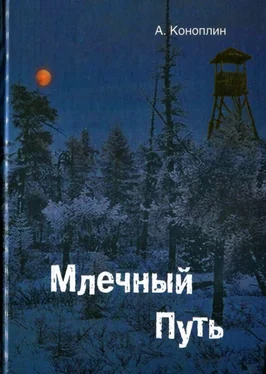







![Олег Данильченко - Имперский вояж - Из варяг в небо. На мягких лапах между звезд. Чужая война. Тропинка к Млечному Пути [сборник litres]](/books/389801/oleg-danilchenko-imperskij-voyazh-iz-varyag-v-nebo-thumb.webp)



