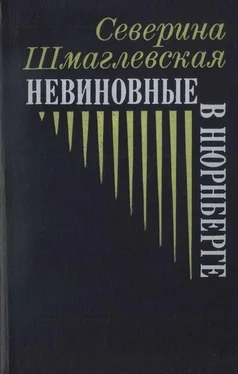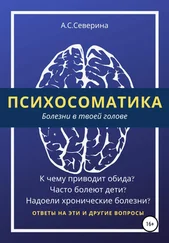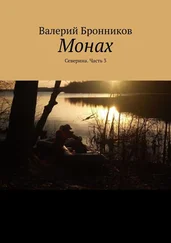— Пан Себастьян! — громко окликает его доктор Оравия. — Я бы с удовольствием освежил рот. Вы не угостите меня?
— Прошу вас. Этого добра у меня много.
Доктор берет кусочек завернутой в целлофан жвачки, медленно разворачивает ее, кладет в рот и задумывается. Потом вдруг произносит, обращаясь то ли к нам, то ли к собственным мыслям:
— А ведь они могут заявить, что мы опоздали. Как вы считаете? Если они уже закончили опрос свидетелей, скажут нам: Sorry. Просто-напросто: Sorry!
Слова доктора пугают меня. А он возбужденным голосом продолжает высказывать свои сомнения:
— Не надо переоценивать важности наших показаний в данный момент. Процесс подходит к концу. Польша опоздала. Прошел год и месяц со дня освобождения Варшавы. Год и месяц! Мир уже начал забывать о том, что было, а нам кажется, что все будут плакать вместе с нами. Это наше заблуждение.
Его пальцы быстрыми плавными движениями пробежались по лбу, остановились на веках, безжалостно давят на глаза.
Видимо, мысли доктора опережают наш самолет — он то и дело нервно вскидывает руки и потрясает ими над головой.
— Мир забыл уже обо всем том, чего мы с вами не забудем никогда, — добавляет он.
На правом крыле вспыхивают прерывистые огоньки, гаснет и зажигается красная мигалка, внизу немецкая земля. Оказывается, наконец-то она прямо под нами, надо только посадить самолет. В каждом из нас растет беспокойство. В Варшаве нам внушили, что мы необходимы, что без наших показаний, без нескольких слов, которые мы можем сказать на Нюрнбергском процессе, трудно будет составить верное представление о вине подсудимых.
Внезапно нас снова окутал туман. Стоны двигателей в тумане кажутся натужными. Может быть, самолет не справляется с пространством, может, он повис неподвижно в этой гуще, точно корабль в Саргассовом море? Может быть, рокот и ощутимое дрожание — результат бесплодных усилий?
Это ощущение затягивается. Кажется, что, влекомые силой притяжения, мы кружим над земным шаром или, заблудившись, тычемся туда-сюда над каким-то неизвестным материком.
Мы качаемся в пустоте между облаками, вырванные из течения времени, часов, минут. Ни в правом, ни в левом иллюминаторе ничего не видно, стекла залепила серовато-бесцветная густая мгла.
Было трудно разобрать — полдень это или светлая ночь. Меня то будил, то усыплял спокойный тихий монолог. Теплый, убаюкивающий голос, он лишь частично проникал в сознание, словно отдаленное эхо вечерних домашних бесед под звук мурлычущего огня, угасающего с тихим потрескиванием искр и снова вспыхивающего на миг. Слова уплывали и возвращались, шум двигателей заглушал их, но изредка стихал, и тогда мне удавалось различить главное. Я поворачиваюсь в кресле, чтобы лучше слышать обрывки фраз; оптимизм слов согревает меня, и я вновь погружаюсь в безопасную и уютную пучину сна.
— Европа, очищенная от этой мерзости, ждет нас. Путь открыт. Проверено: мин нет. Вот теперь мы заживем!
Фальцет Михала Грабовецкого, пробивавшийся сквозь непрерывный гул, успокаивал меня:
— Европа вылечена раз и навсегда!
Мне легко дышалось. Хотя ощущение тяжести, сковавшее мое сердце, не проходило.
— Европа теперь — это о-го-го! Сами увидите. Наберитесь только терпения. Проблема решена раз и навсегда.
Как приятно слушать это и дремать, закутавшись в плащ, в грохоте мчащегося металла.
Мой сосед теперь храпит уже основательно, его склоненная голова мотается из стороны в сторону, светлая шевелюра закрыла лицо.
Проваливаюсь в сон и просыпаюсь. Мысли навязчиво возвращаются все к той же теме.
Позади осталась столица: развалины, вывернутые наизнанку железобетонные внутренности домов — мертвый город, внушающий ужас торчащими металлическими балками, стальными прутьями, выцветшими и скрюченными, точно перегнившая солома. Моя столица. Беззащитная перед многотонными бомбами, падающими с неба, и струями огня с земли, как беззащитны были дети под дулами эсэсовских автоматов.
Прошел уже год с тех пор, как ее освободили. В подвалах домов лежат засыпанные тела. И живут люди.
На аэродром я добиралась на велорикше, сугубо военном в Польше виде транспорта. За рулем сидел совсем юный паренек. Он поначалу поморщился — аэродром далеко, Снег валит, а у него единственная «тяга» — собственные ноги. Мне пришлось разрешить его сомнения, сказав всю правду:
— Дорогой мой! Через полчаса вылет. Я должна успеть. В Нюрнберг! Вы должны понять! Эта толстенная папка, перевязанная веревкой, — документы Комиссии по расследованию преступлений гитлеризма. Мне нельзя опоздать. Выручайте.
Читать дальше