В 1997 году А. Жариков выпустил книгу «Полигон смерти». Книга имела шумный успех. В нее включён и этот эпизод.
Ещё в 1945 году на Потсдамской конференции американский президент Трумэн в разговоре со Сталиным как бы между прочим заявил о том, что США имеют ядерное оружие. В 1949 году успешное испытание ядерной бомбы произвёл СССР. Паритет снова был достигнут. Но для того, чтобы сдержать Америку от желания атаковать советские города новым оружием огромной разрушительной силы, Сталин приказал держать в Европе и на западных границах огромный контингент войск. Армии, которые ещё вчера сокрушали последние рубежи немецкой обороны. Пока советские учёные в шарашках и на полигонах создавали первую советскую атомную бомбу, сдерживающим фактором могли быть только люди, миллионы людей в военной форме и танки, армады танков, заправленных горючим и готовых к маршу в любой момент.
В мае–июле 1948 года в нескольких сотнях километров западнее, откуда эти армии три года назад вернулись, Объединённый комитет начальников штабов провел штабную игру под кодовым названием «Пэдрон». В ходе игры бывшие союзники проанализировали возможный сценарий военного столкновения, а точнее сказать, войны между США и СССР при том, что американская армия атакует советские города с применением того запаса ядерных бомб, который к тому времени был накоплен на складах. Выводы американских военных оказались неутешительными: советские войска в первые же две недели военных действий захватывали Берлин и Вену, почти беспрепятственно выходили к Рейну…
Сталин это тоже знал, и его до поры до времени устраивала гигантская армия, которую надо было кормить, одевать, вооружать. Но после 1949 года, когда появилась бомба не хуже американской, армию можно было значительно сократить. И её сокращали. Вот почему некоторые маршалы командовали военными округами, а генералы, закончившие войну командармами, оказались командирами корпусов и даже дивизий. Некоторые же, такие, как Гордов, и вовсе были уволены в запас.
Поэтому своё назначение на округ Конев вряд ли воспринимал как ссылку. Подобную той, в которую угодил маршал Жуков. Во–первых, Конев не был столь амбициозен, как его бывший сосед справа по штурму Берлина. Во–вторых, он попал в родную стихию, в войска, которые любил. В-третьих, он понимал, что эпоха блестящих побед, боевых наград и стремительных повышений в званиях и чинах миновала.
Штаб округа находился во Львове, который войска Конева совсем недавно брали штурмом. Места знакомые, но сильно изменившиеся с той фронтовой поры.
Конев привёз сюда свою новую семью: жену Антонину Васильевну, с которой официально зарегистрировался. На этот раз — никакого гражданского брака. В том же 47‑м родилась дочь. Дочь назвали Наталией.
Вот что вспоминает о львовских годах Наталия Ивановна Конева: «Помню прекрасный особняк в старой части Львова: с эркером, фруктовым садом, цветником; гостиную с пианино и даже кладовую: настоящая, как в каких–то кинофильмах о старой, дореволюционной жизни, с домашними колбасками и окороком на крючке, соленьями и вареньями. Солдат–охранник (тоже примета эпохи) должен был везде сопровождать нас с мамой. Он был человеком творческим: из каких–то катушек и ниток соорудил кукольный театр, всё начинало двигаться, и он на разные голоса рассказывал мне истории — незабываемое впечатление.
Мама старалась воспитывать из меня барышню: водила в студию танцевать, сшила пачку из марли, а в качестве отделки наклеила на неё серебряных бабочек из конфетной фольги. В доме появилась учительница музыки Людмила Францевна, полька по национальности. Память зафиксировала осколки впечатлений: мелодии полонезов и мазурок, которые она наигрывала, милые польские словечки «пше проше», «подарунчик» за хорошее поведение. Я уже понимала, что оказалась в лоне какой–то другой культуры. Скажем, на Пасху совсем не по–русски красили яйца, из костёла доносились звуки органа, а девочки из хороших семей носили шляпки и перчатки.
Маме хотелось, чтобы дочка командующего тоже выглядела достойно. В её представлении — это платье–матроска, а сверху — белое пальтишко и берет, которые она собственноручно изготовила. В этой одежде я и появилась с мамой на параде войск Львовского гарнизона.
Папа возвращался домой поздно, когда я уже спала, он работал ночами, как это было принято при Сталине.
Дома они с мамой беседовали за огромным столом. Она всегда ждала его возвращения. Иногда уезжали куда–то вместе. Помню сборы на праздничные приёмы. Отец как военный человек собирался быстро: мундир в орденах, начищенные парадные сапоги, фуражка в руке, а мама, хотя и шустрая по натуре, ещё прихорашивалась и в последнюю минуту спешила подкрасить губы и подушиться духами «Каменный цветок», привезёнными папой из Москвы. Коробочка, которая так симпатично раскрывалась, как малахитовый цветок, была моей вожделенной игрушкой: я уже знала сказку Бажова про малахитовую шкатулку.
Читать дальше
![Сергей Михеенков Солдатский маршал [Журнальный вариант] обложка книги](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-cover.webp)

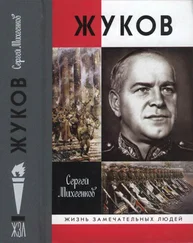


![Сергей Григорьев - Гибель Британии [журнальный вариант]](/books/123722/sergej-grigorev-gibel-britanii-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)

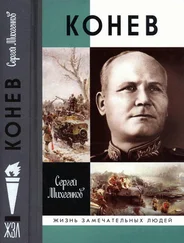

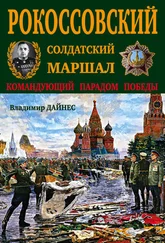
![Сергей Антонов - От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант]](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-thumb.webp)
