Ещё шла артподготовка, когда разведка донесла: противник, оказавшись под огнём артиллерии и авиации, несёт большие потери и начал отвод своих войск на вторую линию обороны.
Конев: «Часа через два после окончания артиллерийской подготовки, когда пехота вместе с танками сопровождения рванулась вперёд, я объехал участок прорыва. Всё кругом было буквально перепахано, особенно на направлении главного удара армий Жадова, Коротеева и Пухова. Всё завалено, засыпано, перевёрнуто. Шутка сказать, здесь на один километр фронта, не считая пушек и миномётов мелких калибров, по противнику били двести пятьдесят–двести восемьдесят, а кое–где и триста орудий. «Моща!» — как говорят солдаты».
Армии генералов Пухова, Коротеева и Жадова в первый же день наступления продвинулись вперёд до двадцати километров и успешно свёртывали фланги, обеспечив к исходу дня коридор шириной до шестидесяти километров. И в образовавшуюся брешь тут же хлынули танковые армии генералов Рыбалко и Лелюшенко.
В этой операции Конев предусмотрел всё. Противник располагал крупными танковыми и моторизованными резервами. Конев понимал, что в создавшихся обстоятельствах они попытаются остановить наступление. Для этого ударят по первому эшелону в момент развития наступления пехотных частей и танков сопровождения. Чтобы этого не произошло, он ввёл в дело танковые армии.
Танки Рыбалко и Лелюшенко появились на флангах и перед позициями моторизованных частей 4‑й танковой армии генерала Грезера в тот момент, когда те только выходили на исходные позиции. Их судьба была уже предрешена.
Примерно так летом 41‑го в приграничных сражениях гибли наши механизированные корпуса и танковые дивизии. Маятник войны качнулся в другую сторону…
Немецкий генерал и историк Второй мировой войны Курт Типпельскирх о прорыве на Висле в январе 45‑го впоследствии написал: «Удар был столь сильным, что опрокинул не только дивизии первого эшелона, но и довольно крупные подвижные резервы, подтянутые по категорическому приказу Гитлера совсем близко к фронту. Последние понесли потери уже от артиллерийской подготовки русских, а в дальнейшем в результате общего отступления их вообще не удалось использовать согласно плану. Глубокие вклинения в немецкий фронт были столь многочисленны, что ликвидировать их или хотя бы ограничить оказалось невозможным. Фронт 4‑й танковой армии был разорван на части, и уже не оставалось никакой возможности сдержать наступление русских войск. Последние немедленно ввели в пробитые бреши свои танковые соединения, которые главными силами начали продвигаться к реке Нида, предприняв в то же время северным крылом охватывающий маневр на Кельце».
Глава тридцатая
СПАСЁННЫЙ КРАКОВ
«Если бы не войска маршала Конева…»
Висло — Одерская операция ураганом неслась в глубину Польши.
Левое крыло 1‑го Украинского фронта — 59‑я и 60‑я армии генералов Коровникова и Курочкина приближались к Кракову.
Краков — древний польский город. Старинные застройки, исторические памятники и памятники архитектуры. Город–шедевр. Одновременно — ключевой пункт немецкой обороны на пути к Берлину. Ключ к Силезскому промышленному району. Армии правого крыла, действовавшие в районе Ченстохова, уже нависали над краковской группировкой противника. Левее соседи из 4‑го Украинского фронта начали охват 17‑й немецкой армии с юга. Однако Краков и прилегающий район немцы сдавать не собирались. Заводы Силезии, без которых трудно продолжать войну, нужны были сражающемуся вермахту, как порох. Тем более, что вторую кузницу оружия — Рур — в это время атаковали союзники.
Краковский крепостной район. Здесь войска 1‑го Украинского фронта натолкнулись на жесточайшее сопротивление. Похоже, здесь немецкие войска готовы были повторить сценарий Сталинграда.
Когда в штаб фронта приводили очередного «языка», командующий пристально всматривался в черты лица пленного, внимательно следил за его жестами и интонацией голоса. Нет, ничего не менялось, немецкий солдат был по–прежнему самоуверен и храбр, а своё плачевное положение — пленение — воспринимал как нелепую случайность, о которой искренне сожалел. Наступление в Арденнах, о котором знал каждый немецкий солдат, воспринимая его как перелом в войне, окрыляло, поднимало дух.
Конев: «Закат третьей империи ещё далеко не все немцы видели, и тяжёлая обстановка пока не вносила почти никаких поправок в характер действий гитлеровского солдата на поле боя: он продолжал драться так же, как дрался раньше, отличаясь, особенно в обороне, стойкостью, порой доходившей до фанатизма. Организация армии оставалась на высоте, дивизии были укомплектованы, вооружены и снабжены всем или почти всем, что им полагалось по штату.
Читать дальше
![Сергей Михеенков Солдатский маршал [Журнальный вариант] обложка книги](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-cover.webp)

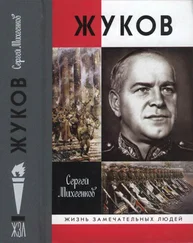


![Сергей Григорьев - Гибель Британии [журнальный вариант]](/books/123722/sergej-grigorev-gibel-britanii-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)

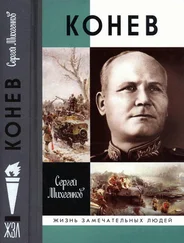

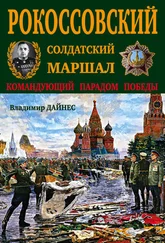
![Сергей Антонов - От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант]](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-thumb.webp)
