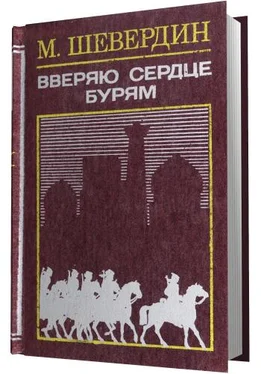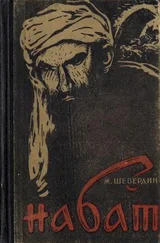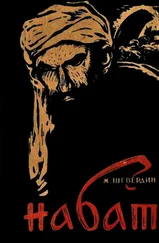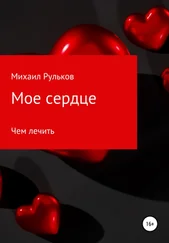Цигарки потушили. Двинулись в темноте дальше. Примолкли.
Воздух неподвижно висел, давил. Сон никак не хотел отвязаться, напоминая, что длинная ночь подходит к концу, что усталость валит с коня, и лишь невольно бодрило шарканье ног во тьме. Неудобно-таки. Люди идут уже шестьдесят верст пешком... И идут. А ты еще едешь на коне... тебя конь на спине несет. А каково им?
Пешим? Плохо, наверно. А вот идут и не ропщут. Надо идти и идут.
Даже угрызение совести испытывал тот, которого бойцы уважительно называли в разговоре комиссаром. Вот он едет с комфортом на отличном, лично выхоженном коне, едет тихонько, убаюкивающе укачиваемый «юргой» (иноходью), к которой привык в долгих странствованиях по Каратегину и Бадахшану. И то жалуется внутренне самому себе на усталость. А что же тогда сказать про бойцов, отшагавших уже четыреста верст за пять дней? Вот это люди, вот это бойцы! И этот рязанец, и этот башкир, и этот латыш.
Вот они шагают впереди черными силуэтами на белесой полосе Царской дороги, ведущей от границ Китая до Бухары. Они не утратили бодрости. Они даже разговаривают. Нет, это они поют. Что они поют?
Комиссар встрепенулся и прислушался. И с удивлением увидел перед собой что-то белое и неправдоподобно странное. Он даже слушать перестал и, не сводя глаз с этого странного, старался понять, почему вдруг на небе над головой висит белый конус, даже не белый, а какой-то неправдоподобный желто-розовый... Да, да, приторно-розовый. И тут только он обрадовался: значит, колонна, наконец, выбралась из соленого, безжизненного ущелья Смерти, из этой проклятой щели Танг-и-Муш. Алексей Иванович, дав шенкеля, погнал коня вслед шагавшим впереди бойцам, вслушиваясь в слова песни.
Она, видимо, сочинялась в походах и на марше отнюдь не композиторами и не поэтами-песенниками и не обладала художественным совершенством.
И тем не менее песня эта комиссару понравилась: она вселяла бодрость, отгоняла безумную, ломящую сердце и суставы усталость, звала вперед, к розовому конусу, висевшему во тьме над долиной, она звала к вершине горы Байсуи, освещенной первыми отблесками утренней зари, она, эта песня, звала в горное селение Байсун, до которого оставалось теперь каких-нибудь верст пятнадцать.
Песня бодрила:
Товарищи, от Кушки до Хорога
Скачет крылатое слово:
«Тревога!»
Снова басмачья шакалья стая,
Хищным оскалом зубов сверкая,
Хочет нам стройку сорвать...
«Эй, бек Ибрагим, припасай голов,
А одной уж тебе никак не сносить.
Шакалью свору мы косим и будем косить!
Конь комиссара поравнялся с бойцами.
И тут вдруг оказалось, что пешеходов не трое, а шестеро. К тому же — а это можно было теперь разглядеть в рассветных лучах, потому что величавый конус горы Байсун сейчас уже был позлащен со;:: том, проклюнувшимся своими лучами над ломаной стеной Гиссарского хребта. Солнце уже бросало отсветы и на плоские адыры, и на долину, по.которой вилась белая полоса дороги, и на фигурки людей, бредших по ней, и на тарахтевшие военные брички, и на шестерку пешеходов.
Среди красноармейцев, одетых в гимнастерки с синими «разговорами», выделялись горцы в светло-серых, почти белых верблюжьего сукна добротных халатах и ослепительно белых чалмах.
Люди в чалмах шагали рядом с демобилизованными бойцами, тяжело передвигая ноги и по-старчески опираясь на точеные, полированные дервишеские посохи.
«Откуда они взялись?»
Они шли молча. И ни один из них не повернул головы на конский топот, когда комиссар подъехал сзади к ним. Кто такие? Почему какие-то муллы или дервиши в воинской части?
Разглядеть их лица в предрассветном сумраке Алексей Иванович не мог. И все же сейчас он задал себе вопрос: «Чего это они сорвались с брички и пошли пешком среди ночи?»
Он залюбовался величественной вершиной Байсуна. Она стояла гигантским утесом среди беспорядочно торчавших, еще темных, неосвещенных вершин и пиков, по которым кроваво-красными космами ползли туманы...
«И все же надо спросить Баба-Калана».
Что-то заставило его обернуться еще раз. Может быть, то, что сделалось совсем светло и ему захотелось поглядеть на лица прохожих в чалмах. Особенно налицо того, который шел твердой походкой и не так гнулся под накинутым на плечо красно-оранжевым хурджуном. Два других муллы комиссара не интересовали. Они шли, согбенные старостью и тяжестью хурджунов, тяжело опираясь на свои посохи. А вот один...
Читать дальше