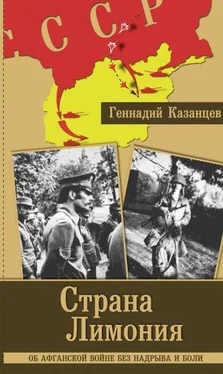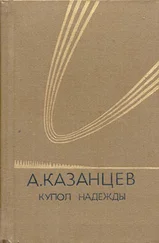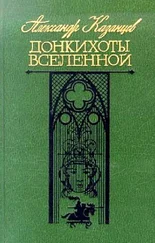— Отставить! — кричит Герман. — Это не обстрел! Это рвутся патроны!
Действительно, через некоторое время ему удаётся достать два вздувшихся автоматных рожка. Ни одна пуля так и не пробила металлические оковы магазина. Герман рассматривает мятые детали от старого автомата АК-47, пока не замечает горящие подошвы своих польских ботинок. Он отпрыгивает, вытирает их о землю, оставляя на ней расплавленные ошмётки. «Ну вот, теперь даже не в чем в театр сходить», — усмехаясь, вспоминает он напутственные слова своей тёщи.
Наконец всё, что осталось от вертолёта, разносят по сторонам. Только сломанные лопасти винтов остаются в эпицентре падения. Спасательная команда, в одночасье превратившаяся в похоронную, укладывает на брезент останки лётчиков. У Германа наворачиваются слёзы. Его друг стоит, теребя в руках панаму. Ещё полчаса, и машины с печальными седоками на броне возвращаются в лагерь.
«Странная эта штука — война, — думает Герман, усаживаясь верхом на успевший нагреться под солнцем металл бэтээра, — ни причин, ни следствий, ни героизма. Были люди, и через минуту их не стало. А уже в похоронках напишут... Потом всё это войдёт одной строкой в историю, которая будет неправдой, но по-другому нельзя. Нельзя, чтобы кто-то погибал просто так. Значит, вся история — это заведомо ложь?» Он продолжает размышлять, придерживаясь рукой за ствол КПВТ, когда бронированная машина, преодолев гряду, ныряет на спуске в изумительной красоты долину. Здесь, на высокогорье, ещё царствует весна. Внизу раскинулось огромное розово-голубое маковое поле. Колонна, перестроившись клином, мнёт посевы, оставляя за собой грязно-оранжевые полосы потравы. Вся машина, словно свадебный кортеж, усыпана нежными лепестками цветков. «Как же всё перемешалось! — размышляет офицер. — Красота и смерть, жизнь и тлен, нежность цветка и наркотический дурман». Его мысли обрывает вынужденная остановка у входа в очередное ущелье, куда медленно заползает рассыпавшаяся колонна.
Ещё двое суток «каскадёры» катались на броне, спешивались, шли по пыльным тропам, падали в грязь при обстрелах, снова шли, «мочили духов», ели, пили, голодали, мучались жаждой, снимали со своих лиц обгоревшую кожу, смазывали зелёнкой лопнувшие мозоли.
Но всему приходит конец. В конце третьих суток войны рокочущая колонна спускалась с гор в молочном облаке пыли. Сидящие на броне бэтээра «каскадёры» напоминали грязные гипсовые фигуры заброшенного парка культуры и отдыха. Ехали молча. Бледный диск солнца с трудом угадывался сквозь вздыбленную пелену поднятой в воздух глины. Красными воспалёнными глазами офицеры смотрели по сторонам в надежде увидеть знакомые ориентиры. Трудяга Репа отматывал последние полоски туалетной бумаги. Скоро замелькали глинобитные дувалы, а ещё через несколько минут их бэтээр нырнул во влажную тишину вечернего Самархеля.
Выстрел — как итог сомнений
Вернувшихся встречали как героев-«челюскинцев». Сразу после душа — праздничный стол. Отдельно для Германа подогрели водку. Оживлённый шум, забористые тосты и песни под гитару не смолкали до первых звёзд.
Измотанный Герман, не раздеваясь, лёг на кровать. В голове закрутилась вереница эпизодов последних трёх дней.
— О чём думаешь? — прервал его блуждания по закоулкам памяти капитан Репа.
— Так просто... Скажи, Репа, ты видишь в этом хоть какой-то смысл?
— Ты о чём?
— О нашей операции... Вот хочу понять, будет ли от неё польза?
— Польза? Ну а как же, — ответил товарищ, разбирая пистолет, — непременно будет. Народная власть закрепится ещё в двух уездах. Дети пойдут в школу, вместо мака начнут сажать пшеницу...
— Ты что, правда так думаешь?
— Правда.
— А оно им нужно? — не унимался Герман.
— Что «оно»?
— Ну, школы эти, пшеница с маком, родильные дома с гинекологами, — упрямился он. — Ты что, не видишь, им же до лампочки всё, что нам близко. Они не слушают нашу музыку, смотрят только индийские фильмы...
— Погоди, Гера, ты, значит, считаешь, что мы сюда зря пришли? — втягивался в дискуссию Репа, проверяя на свет чистоту нарезки ствола пистолета.
— Я не знаю, я только пытаюсь понять.
— А я считаю, — очнулся после минутной паузы Конюшов, — там, в Москве, есть кому за нас думать. — Он привычно надел на ствол возвратную пружину и стал прилаживать затвор.
За диалогом уже несколько минут наблюдал лежащий на кровати Володя Малышкин. Он даже отложил томик Сомерсета Моэма и шарил под подушкой в поисках своего портсигара.
Читать дальше