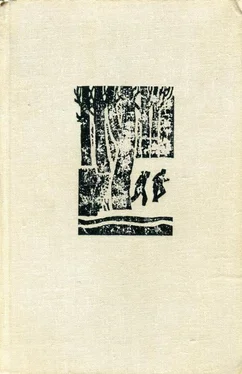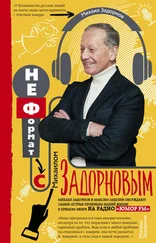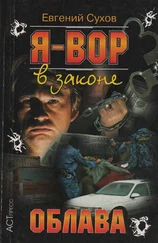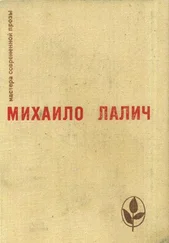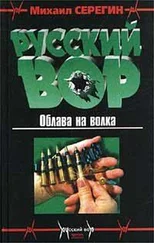— Сукины дети, — выругался Слобо, — чуть на горло не наступили.
— Могли бы нас перерезать без единого выстрела, — сказал Шако.
— Сейчас нам на них начхать.
— Думаете, это были они? — испуганно спросил Арсо.
— Кто же другой?
— Почему же нас не тронули?
— Почему, почему, — сказал Шако. — Сам господь бог этого не знает. Видать, что-то им померещилось в тумане или черт его знает что. Или напугались, или нечистая сила их завела, ничего другого не придумаешь! И к лучшему, что завела, спасибо ей превеликое!
Из землянки вышел Ладо, застегнул офицерский китель, надвинул шапку и прислушался. Слышно, как в тумане шумит ручей и как ветер то тут, то там раскачивает ветви. А за всем этим звучит что-то неясное и надуманное, как это всегда бывает при беспричинной тревоге. Потом Ладо чуть отступил, чтобы пропустить Вуле Маркетича, взглянув при этом на его короткую крестьянскую куртку и сербские расшитые чулки. Вся эта неразбериха путаных снов, незнакомой местности, рассвета и тревоги, показалось ему, происходит оттого, что человек, знающий о картелях и борющийся против их коварной силы, не должен был бы одеваться в простую крестьянскую сермягу и чулки с поблекшим рисунком… И лишь нагнувшись, чтобы взять пригоршню снега и протереть глаза, Ладо увидел следы и стал внимательно их рассматривать, словно бы читать. Он вспомнил, что во сне слышал чей-то зов, подумал о Неде и покачал головой: нет, не она, не такая уж она дура, да и не могла она оставить столько следов, тут много людей прошло, следы разные…
Вышел Раич Боснич, бледный, как мертвец, в шапке, надетой задом наперед, и накинулся на Шнайдера:
— Ты меня не разбудил! Ты разбудил кого-нибудь другого?
— Нет, никого, — сказал Арсо. — Я заснул за десять минут до смены.
— Скажи, чтобы все это слышали и потом Иван Видрич меня не винил.
— Я же сказал, что признаю. Надо кричать? Если нужно, могу покончить с собой.
— Сейчас поздно, надо было раньше! Если бы мы не спали, все было бы по-иному. Мы могли бы по их следам уйти отсюда.
— Наткнулись бы на засаду.
— Лучше уж на засаду, чем так. Только туман и спас нас. Просто чудо, что нас не перерезали, как кур. Черт его знает, что это было.
— Тсс, — сказал Видрич. — Поговорим об этом потом.
Все вышли наружу — одни рассматривают следы, другие прислушиваются. Душан Зачанин отстегивает шероховатую лимонку и опускает ее в карман. Гара тоже отстегивает гранату и опускает в карман, потом вытаскивает пистолет и заглядывает в его дуло. Готовятся, приготовились, но Арсо Шнайдеру все это кажется каким-то невероятно упорным продолжением кошмара. И ему хочется, чтобы это был сон, только сон может его еще спасти! Он готов все, что выходит за пределы сна, насильно вернуть назад, в землянку, на нары, чтобы было все по-прежнему. «Ошибка в том, что мы вышли, — подсказывает ему частица сознания, — те, кто приходил сюда, убедились, что нас нет, и ушли. Сейчас нет никого, кругом ни души! И они не вернутся, если мы не привлечем их тем, что станем прислушиваться и ждать. Когда прислушиваешься, в воздухе образуется нечто вроде ямы: и в эту яму все валится, и потому всегда можно определить, где она. Не могу я больше ждать, все болит от ожидания. Надо с этим покончить, вот я сейчас!..»
Он закинул винтовку за спину и полез на дуб. Разлапистая ветвь мешала ему видеть, он отодвинул ее. В тот же миг грянуло два выстрела, и ему запорошило глаза желтой пылью пожухлой листвы. Звон в ушах убедил его в том, что голова еще на плечах. Потеряв равновесие, он скользнул вниз по стволу и, очнувшись только на земле, удивился: ничего не болит! Не болит, а он все лежит, как баба, которая поскользнулась на льду и не знает, что ей делать. И лишь увидев, как Раич Боснич, став на правое колено, целится и стреляет, он понял наконец, что следует делать. Арсо опустился на колено и выстрелил. Самое плохое, что после каждого выстрела приходится выбрасывать гильзу, это задерживает. После третьего выстрела он почувствовал, что нашел свое место и, кажется, выполняет свой долг. Он не видит, в кого стреляет, перед глазами лишь серая пелена тумана и качающиеся ветви деревьев, но об этом сейчас некогда думать. У него мерзнет колено, и он боится, что его заденет одна из пуль, которые щелкают повсюду, но это его личное дело, частные трудности, которые тонут в красоте единого порыва: отвечать огнем на огонь.
III
Ручной пулемет Слобо Ясикича, захваченный у итальянцев во время восстания, чиненый-перечиненый, побывавший в земле и переменивший несколько хозяев и прозванный за это «старой шлюхой», стрекочет и время от времени завывает, поднимая вихри снега, сухих листьев и обломанных ветвей. Шако выпахивает на своем пулемете быстрые лучистые борозды — метров десять вправо, метров десять влево, разыскивая прячущихся, и везде их находит: и внизу, и по сторонам, и наверху, над землянкой. Две гранаты, брошенные еще в самом начале и уже позабытые, наконец взрываются и вносят растерянность во второй взвод Бекича. Глухие крики Вуле Маркетича и Шако Челича, идущие точно из-под земли, и веселые бодрые восклицания Слобо Ясикича заглушают резкие и отрывистые приказания Бекича и Бедевича. Хозяева долины Дервишева ночевья не защищаются, а нападают, словно только и ждали незваных гостей.
Читать дальше