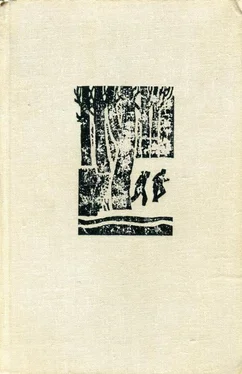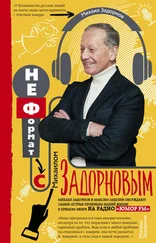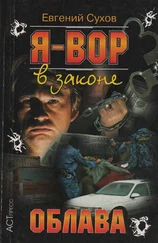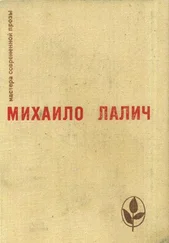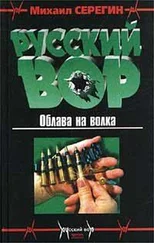Заставив себя улыбнуться, — даже в голосе ее чувствовалась улыбка, — она сказала:
— Милости просим, Шако из леса, если уж тебя черт принес! Чего ты здесь ищешь?
— Твоего сына. Где он?
— Это тебе лучше моего известно.
— Узнает он, почем фунт лиха, когда я дознаюсь, где он. Кто в доме?
— Больная женщина. Если задумал жечь, позволь хоть ее вынести.
Ладо показалось, будто он слышал этот разговор когда-то давно и что он знает все до последней мелочи, еще с того времени, когда это происходило первый раз. И дом, эта западня, которая влечет к себе, чтобы захлопнуть, ему знаком, и больная в постели видится ему наподобие бледного призрака. Призрак этот мог бы ожить, обрести лицо, имя, с чем-то связаться, если бы у него было время и силы сосредоточиться на нем. Однако нет ни времени, ни желания, ничего нет, он опустошен, сломлен, и ему до смерти надоели бесконечные варианты насилия и борьбы за жизнь. Хорошо бы очутиться в лесу, большом, с горами и обрывами, и заснуть. И вдруг на этот полный дремы лес, в который он вот-вот войдет и в котором тут же утонет, дунул легкий ветерок, и ветки зашептали друг другу: «Это она, Неда, заблудилась и укрылась здесь — хоть взгляни на нее…» Однако с другой стороны поднялся другой ветер, покрепче, и ветки тотчас отступились от своих слов: «Нет, это не она, Неда далеко, кто позволил бы ей сюда прийти? Оставь Неду в покое — в такой день нехорошо думать о своем…»
— Кто такая эта больная женщина? — спросил Шако.
— Не знаю, — сказала Лила. — Привел ее Пашко Попович, его спрашивай.
— А он хотя бы здесь?
— Нет и его. Пошел подбирать мертвых.
— Каких мертвых?
— Каких найдет. Все мертвые одной веры, у них одна церковь — черная земля.
— Нет, не одна, — сказал Шако и рассердился: — Говори это своему сыну, а не мне!
— И ему говорила, да не помогает.
Ладо не слушал их, его мысли неотступно привязаны к этой больной: странная незнакомка, надо бы зайти поглядеть, но он боится закрытого помещения. Давно уже боится, — и только когда он не один, забывает об этом. Это даже не страх, а какой-то коварный, зловещий, постепенно нарастающий гнет, который вдруг начинает его душить и от которого поднимается такое головокружение, что он не может отыскать дверь. Он устал; он, конечно, в силах заставить себя войти внутрь, но там он застанет незнакомую женщину и только время потеряет. «Не пойду, — решил он про себя, — я не сумасшедший! Мало ли больных женщин на свете, а еще больше заблудившихся. И даже будь это Неда, чем я могу ей помочь? Только сильнее запутаюсь, и будет еще тяжелее. Да и не она это, откуда ей взяться, ее арестовали бы, если б поймали. Просто у меня голова кругом пошла от всех этих фантазий…»
— Я хочу посмотреть на больную, — сказал Шако.
— Чего на нее смотреть? — спросил Ладо. — Какая-то женщина. Лучше пойдем.
— Я быстро. — И Шако торопливо вошел в дом.
Шако думал, что старуха их обманывает, что она скрывает какого-нибудь важного начальника, пьяного или больного; или, может быть, кто-нибудь зашел отдохнуть и застрял тут. Пусть даже это будет не большой начальник, пусть будет средний, гость или приятель Филиппа Бекича, либо по дороге зашел, либо захотел хватить ракии — голодный волк и шелудивым теленком доволен. Главное, пустить кровь, обагрить дом, чтобы пошли толки в народе. Кровь — лучшее доказательство, что коммунисты еще живы и не присмирели от страха. Он взял в руки пистолет и влетел в комнату. Подошел к кровати, ожидая выстрела, приподнял одеяло и встретил испуганный взгляд Неды. Ему стало стыдно, что он напугал женщину, он быстро закрыл ее снова одеялом и больше уж ни на что не смотрел. Вышел он злой: проклятое место, проклятый день, то и дело выкидывает с ним черт шутки.
— Старуха, — крикнул он, — дай поесть!
— Что-нибудь найдется.
— Не что-нибудь, а хлеба, копченого мяса и ракии, да поживей!
— Постараюсь поживей, только бы скинуть тебя со своей шеи!
Втолкнув девочек в дом, чтобы помогли ей и не боялись, она занялась едой. Шако и Ладо остались одни.
Небо еще светлое: солнце зашло, но зато вовсю сияет луна. На поля с реки и озер потянулись пряди тумана, несется бешеный собачий лай, весь день его не было слышно, и теперь он неистовствует вовсю. Временами его перешибают черные волны победной песни.
Одно «ду-ду-ду-ду…» движется по шоссе в сторону плоскогорья, другое — катится вниз по полянам в долину Караталих. Между этими двумя отвесными стенами, которые то и дело поднимаются из пустоты и низвергаются в нее, где-то близко раздается топот лошадей и обрывки разговора. На дорогу выезжают две пары саней; на первых, согнувшись, сидит старик с бородой.
Читать дальше