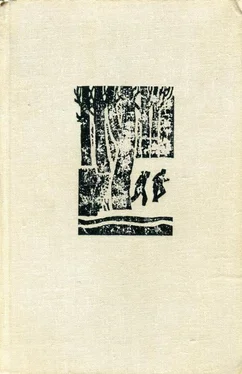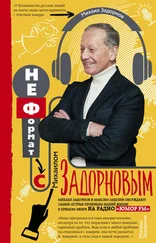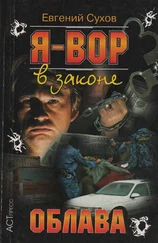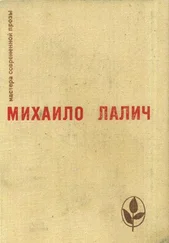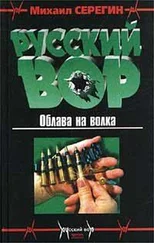Тем временем Шелудивый Граф разглядывал портрет Филиппа Бекича. Он узнал его и злобно зашептал: «Так это ты тот командир, тот Аника-воин, который всю ночь шумел и рычал. Идиот круглый, ты заслужил картофельную медаль и получишь ее! Осточертел ты мне, как зубная боль, а сейчас — катись! Катись, игумен, и не тревожься о своей обители, ты оставил ее в надежных руках! Я позабочусь о твоем монастыре, о ризнице и обо всем прочем, как если бы все это было мое собственное. Спасибо за доверие, здесь совсем неплохо. Мягко, тепло, на обед мясо с капустой, конечно, найдется и ракия, а я такими вещами не брезгую. Позабочусь я и о дочерях, красивые у тебя дочери, и косички у них и ямочки, благо дяде! Затащит дяденька девочек в кровать, чтобы они его грели и лечили от простуды. Напрасно кричать и возмущаться, все это старо, знаем мы эти сказки, далеко ты забрел, не слыхать ничего от стрельбы. Чего мне стыдиться? Ты стыдись! Не мои, а твои дочери. Дети, говоришь?.. Да ведь мне как раз и нравится, что дети. Надоели мне старые курицы, вышли они из моды, пусть себе идут с богом! Надо же кому-то и цыплятам показать, для чего они созданы, открыть им глаза на эти вещи, негоже им оставаться неучеными и зелеными. Мне бы только избавиться от этой страшной бабищи, что не спускает с меня глаз, я бы им все тихо-мирно объяснил. Бабу я заманю в коровник, привяжу к яслям, набью ей хайло сеном, пусть жует, а на голову торбу из-под овса, чтобы не квакала. Ничего не сделаешь, раз она на меня так свирепо смотрит».
— Ты подоила коров? — спросил он.
— Уж не хочешь ли ты их подоить?
— Могу помочь. Я люблю хозяйничать по дому.
— Поищи какой-нибудь другой дом, может, кто ошибется и примет тебя в работники.
— Коровы могут заболеть, если их долго не доить, перегорит молоко в вымени.
— Дай бог, чтоб у тебя мозги в голове перегорели!
— Ты, старуха, партизанка, — крикнул Граф. — Меня ненавидишь, а еврейку обхаживаешь.
— Не нравится, уходи! Либо убирайся, либо молчи! А еще раз помянешь еврейку или рот откроешь, я тебя вот этой дубиной по голове!
И она взмахнула сучковатой дубинкой, показывая, какая она с виду и как она ею владеет. Шелудивый Граф тут же захлопал глазами, и ему тотчас захотелось очутиться где-нибудь в другом месте, под другой крышей и другим небом. Он резко отпрянул, чтобы избежать удара, коснулся ступней края кровати, и его пронзила острая боль, — точно внезапно пробудился и зашипел целый клубок быстрых змей.
V
В лесу на Кобиле Арсо Шнайдер отыскал застывшее тело мусульманина с красными усами. Впрочем, такими они ему только показались, и он отвел глаза, чтобы не видеть, почему они красные. Он протянул было руку, чтобы снять с головы убитого чулаф, но при мысли о том, что этот чулаф, еще влажный от предсмертного пота, надо будет надевать себе на голову, Шнайдера передернуло от гадливости. Он отскочил назад и огляделся по сторонам, не видит ли кто его. Кругом ни души, стоят одни деревья, но это не просто деревья, они одеты в черные чикчиры и черные свиты до пят и с напряженным вниманием следят за тем, как он приближается к этой последней черте. Стоит ему ее перейти, и они разом заорут, подобно тем, на Рачве: «А-а-а-а!» И потом, куда он ни ткнется, мимо какого дерева или куста ни пройдет, его всюду будет сопровождать это «а-а-а-а!». Арсо отступил еще шагов на десять и продолжал пятиться в страхе, что чулаф с головы мертвеца пойдет за ним, как плохая молва.
— Я не взял его! — крикнул он деревьям. — И никогда не возьму, никогда… Я не хуже других, а тоже могу скрепить сердце и погибнуть. Я теперь не боюсь!
Отзвуки, догоняя друг друга, перемешались и превратились в дружный лай, полный удивления и насмешек:
— Поглядите-ка на него!.. Дурень, дурень… Раньше не догадался?.. А-а-а-а!..
— Это никогда не поздно! — старался он перекричать эхо. — Здесь в любое время можно умереть. Никто не опоздает, не дадут, если даже и захочешь. Тоже мне забота!
Он вышел из леса на открытое место и удивился, что все по-прежнему тихо. Тени, совсем уже черные, вытянулись по снегу — высунутые языки леса лижут снег. Арсо вышел из теней на освещенный солнцем простор, поднял голову, выпятил грудь в ожидании выстрелов. Ждет, ждет — ничего, не видят его, не признают. «Может быть, я уже мертвый, — подумал он, — потому они меня и не видят и не стреляют. А то, что я вижу сейчас — истоптанный снег, солнце, кусты, горы, долины, — лишь плод моего воображения, посмертные воспоминания? Впрочем, если я не мертв в буквальном смысле, то для наших я мертв, а это значит — и для себя и для других. Лучшая часть меня уже мертва, остальное тащится за ним. Я не почувствовал, ни когда пришла смерть, ни когда она ушла, — видимо, когда приходит смерть, уже ничего не чувствуешь. Я слишком много придавал ей значения, а смерть всего лишь ничтожная точка и смысл ее лишь в том, что она последняя в нашем поле зрения. Ноль, и ничего больше. Неважно, больше она или меньше других, главное, что она последняя в долгом ряду цифр и нолей, составляющих неопределенное число, которое, благодаря возможности его продолжить, называется жизнью. Подстановкой ноля смерти завершается наконец число лет, дней и прочей суеты, оно заносится в огромные гроссбухи, в которые никто никогда не заглядывает. И сам бог не заглядывает! Нету бога — напрасно я крестился и срамился — пусть себе идет с богом!»
Читать дальше