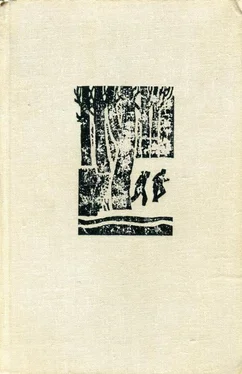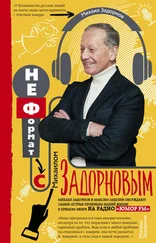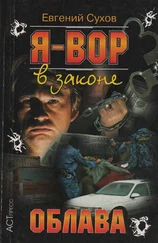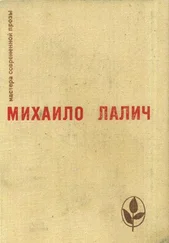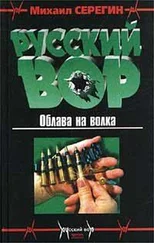— Вон Иван и Зачанин, идут в сторону Рачвы.
— Надо и нам. Где Арсо?
— Где-то здесь. Дай-ка очередь подлиннее, почему они у тебя такие короткие?
— Все патроны кончились. Понимаешь, что это значит? — Шако в ярости опрокинул ручной пулемет. Но и этого ему показалось мало, и он ткнул его дулом в снег.
— Не могу его так бросить, — сказал он, — и разбить не могу. Сделай ты, пожалуйста!
— А как? Впрочем, можно!
Ладо заглянул в зияющую под ногами пропасть.
То, что туда упадет, обратно уж не вернуть, подумал он, разлетится на куски… Он взял пулемет за треногу и приклад, встал во весь рост и, подняв его над головой, швырнул изо всей силы вниз. От напряжения у него даже затрещали кости, боль ожгла рану, точно змея укусила. Голова закружилась, из глаз посыпались искры. Нагнувшись над пропастью, он увидел, как огромная железная ящерица, болтая ногами, вертелась в воздухе и потом исчезла. Он услышал только, как пулемет дважды ударился о выступы скал и наконец охнул, словно само железо ужаснулось бесконечному распаду, к которому возвращалось. «Так, — подумал Ладо, улыбаясь, — одной заботой меньше. Избавимся нынче и от других — это же всего-навсего переход из одного состояния в другое, из органического в неорганическое — ничто в ничто. Выпустим в пространство два-три стона или подавим их в себе, чтобы никто не услышал, и все. Суть-то от этого не меняется, дело лишь в красоте — лучше, конечно, когда не слышно стонов, но это зависит не только от нас, но и от удачи — куда угодит пуля. Повезет ли мне в ту последнюю минуту?..»
Сквозь стрельбу откуда-то с отрогов горы все время слышно, как какой-то горластый муэдзин пытается сам себя перекричать. Другой муэдзин с Повии, тоже невидимый, попытался было собезьянничать, но, поперхнувшись, умолк. Третий голос, послабее, подхватил и продержался немного дольше. Слов нет, одни завывания, словно всех людей уже перебили и только две голодные стаи волков среди бела дня договариваются, куда им двинуться.
— Слышишь, как скликают? — спросил Шако.
— Слышу, не нравится мне это.
— И мне тоже. Встретят нас чулафы на Рачве, как пить дать.
— А можно податься в другую сторону?
— Сегодня нет.
— Раз так, выбирать не приходится.
Проходя мимо Гары, Шако взял винтовку и поправил задравшуюся при падении юбку. Ладо остановился поглядеть на нее. Брови у нее и лоб совсем как у Видры, подумал он, у всех Ясикичей такой лоб: овальный, белый, лунообразный. Он закрыл глаза, но картина перед ним не исчезла, а стала еще яснее. Ладо знает, где он, и в то же время ему кажется, будто он на склоне Ташмайдана, в задымленном от бомбардировок Белграде. Запущенная полянка, редкая, чахлая трава — на траве лежит Видра, возле нее Гара. Почти два года разделяют эти два дня, так крепко слившихся в его сознании. И это все, подумал он, что осталось от их красоты и цветения, от того времени, когда они ходили вместе и не было человека, который не остановился бы и не посмотрел им вслед, любуясь их красотой, когда они гуляли, плясали коло и пели о лучших днях, о грядущей весне человечества… Ничего из этой весны не получилось! Не оправдались их надежды, обманула песня. Правду предвещал лишь вой собак Йована Ясикича и Вуколы Таслача из Шлемена. Завывали и скулили эти два пса то по очереди, то вместе всю злосчастную весну, — нюхом чуяли, как издалека подползает шелудивая сука смерть. Потом собак отравили, но только напрасно мучились и брали грех на душу — неумолчный вой продолжал доноситься и из-под земли, продолжается он и поныне, и его отголоски звучат сейчас в этой перекличке.
— Пошли скорей, — сказал Шако. — Чего ты на нее так смотришь?
— На Видру похожа.
— На какую Видру?
— Ее нет больше. Давно нет.
«Не следовало ее и вспоминать, — заметил про себя Ладо. — Права не имею, это была сама чистота, а я уже нечист. Все во мне — и руки, и мысли — нечисто, чего ни коснусь — все гублю. Теперь вот связался с этой несчастной Недой, перед всеми виноват. И как только я умудрился в такое короткое время столько натворить? А больше всего перед Недой виноват — надул в уши баклуши и был таков. Она не бросила бы меня, наверняка не бросила! Она сжалилась надо мной, хлеба мне, голодному, протянула, все отдала, самое себя отдала, чтоб я не обезумел от одиночества. Разыскивала меня под дождем в горах, в выжженных лесах и буреломах возле Лелейской горы и все звала: «Ладо, Ладо», — ночью, в тумане, глухим, дрожащим от страха голосом. И снова бы пришла, если бы только знала, где я или хотя бы в какой стороне, снова пришла бы и звала глухим, жалобным, испуганным голосом, похожим на тот, который я слышал сегодня во сне. Не знаю, что и думать, но я готов поверить в существование и излучение душ — все время мне кажется, будто голос во сне был стоном ее души: проснись, Ладо, вставай, Ладо, беги, Ладо, спасайся…»
Читать дальше