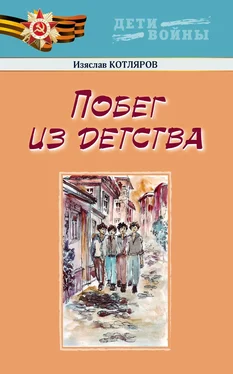Лешка гладит шершавый портфель, щелкает ржавым замочком. Нет, идти никуда не хочется. Он слушает голоса за стеной – сердито выговаривающий бабушкин и виновато сбивчивый Фроськин. Ему почему-то кажется, что говорят о нем. Но не все ли равно? После этого взрыва все в доме стали говорить о Лешке особенно вкрадчиво, виновато и заботливо, будто о больном. А может, он и вправду заболел? Вот ведь ничего не интересно… Хоть бы Толик зашел, что ли?
За окном стоят, не шелохнутся, как нарисованные, деревья. Облетели они, словно огромные одуванчики. В саду, наверное, сейчас душисто пахнет усыпанная белоснежными лепестками земля. А здесь совсем иные запахи: выстиранного белья, дышащего керосином керогаза, кипящего супа… Они изворотливо ползут из-под дверного просвета, и Лешке кажется, что, если хорошенько присмотреться, можно даже увидеть эти запахи.
– Лешенька, внучек, – слышит он голос бабушки, но медлит с ответом, невольно радуясь ласке ее слов. – Ле-шень-ка, – уже более требовательно звучит за фанерной перегородкой. И, наконец, доносится привычное: – Я кому говорю? Лешенька!
И он выходит. Вот они где, эти запахи. Будто паровоз, пышет мыльным паром деревянное корыто. В груде выстиранной одежды Лешка узнает и свои штаны с тесемочными подтяжками. Бабушка гнется над корытом и яростно гоняет, мнет мыльную пену, вся окутанная серым облаком так, что и седых ее волос не видно. «Вот это да!» – мысленно восхищается Лешка, пытаясь рассмотреть низенький, оклеенный цветастыми обоями потолок коридора.
– А, явился! Неужто есть не хочешь? – бабушка вытирает о передник красные, распаренные руки и зовет на кухню. На табурете вздрагивает голубоватым пламенем керогаз, подкидывает крышку кипящая кастрюля. Бабушка как-то все успевает: и уменьшить пламя, и успокоить кастрюлю, и налить Лешке в миску зеленоватых щей, и хлеба отрезать… Фроська стреляет взглядом в Лешкин ломоть и обиженно шепчет:
– Всегда ему больше! Вон какой кусок…
А хлеб с черными крапинками картофельной шелухи и вправду вкуснее вкусного. Сам во рту так и тает, так и тает. Не зря бабушка жаловалась, что за него на базаре три шкуры дерут. Щи тоже что надо. Соли бы еще чуть-чуть! Только ее, видно, на базаре и за три шкуры не купишь… Лешка старательно облизывает ложку, с трудом отводя взгляд от укрытой полотенцем буханки. Вот это да! Обед словно для того и понадобился, чтобы напомнить о голоде. Теперь есть хочется еще больше.
Фроська тоже буравит глазищами буханку, трогает пальцами щербатый, с огромной деревянной ручкой нож и первая не выдерживает:
– Леша, давай мы еще по кусочку. Аккуратненько! Бабка и не заметит. Хочешь?
Лешка колеблется, жадно представляя тающий во рту хлеб. Потом мысленно видит, как подслеповато щурится бабушка, снимая с буханки полотенце, как удивленно шевелятся спрятанные в дряблых складках ее лица юркие морщинки. И поднимается. У дверей его настигает гневный шепот сестры:
– Ябеда! Ябеда!
Фроська шепчет так яростно, будто она уже отрезала себе хлеба, а он уже рассказал об этом…
Лешка лежит на кровати, приятно чувствуя податливую мягкость матраса. И когда только отец успел натолкать свежего сена? Но во всем теле что-то противненько ноет, выпрашивая. И уже трудно не думать о еде. Почему-то видится, как дымит, исходит паром чугунок рассыпчатого картофеля. Вот бабушка опрокидывает его в миску, и картофелины сталкиваются, трескаясь, сбивая кремовую мякоть. А по миске уже весело гуляет деревянный толкачик, и картофелины под ним исчезают, растягиваясь пышным пюре…
Но лучше всего Лешке видится та початая буханка. Вот бабушка откидывает полосатое полотенце, прислоняет хлеб к груди и бережно подносит к нему нож… Какой же он дурак, что съел свой кусок так быстро! Сидел бы сейчас и смаковал по кусочку. Все сытнее…
Сколько Лешка помнит себя, столько помнит и это противненькое чувство голода. Они, наверное, как близнецы, родились вместе. Хотя это, пожалуй, не совсем так. Где-то далеко-далеко, словно костерок в необозримом тумане, теплится воспоминание… Дом. Просторный, скрипящий новенькими, неутоптанными половицами. Крыльцо с двумя щедро распахнутыми дверями. Из одной выскакивай прямо на узенький тротуар, из другой – во двор. А во дворе из-под забора кудрявится крапива, тянется листьями, на которых замерли наготове крохотные волосяные жала. Джульбарс и тот сторонится крапивистого забора. Он вытягивает рыжие лапы на осыпанные опилками «козлы», недовольно фыркает черным носом, потягивается… И такой счастливый, умиротворенный зной разливается по всему двору, золотя и черепичную крышу, и лестницу, упирающуюся в карниз чердачного окна…
Читать дальше