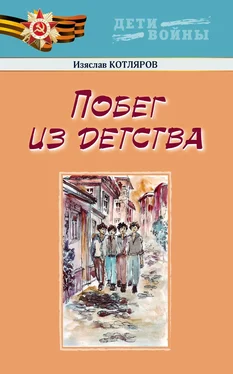– Да так… Ерунда, – Лешка опустил голову, чувствуя, что краснеет. А вдогонку им еще летел веселый Венькин крик:
– Я сделаю-ю! Со мной не пропадешь, Ле-е-ха-а! Будь спо-ок!
– Ну, Леха, будешь и ты сыт, – Венька стоит, едва не по самые локти засунув руки, наверное, в бездонные карманы, будто хочет отыскать в них вчерашние пряники. Потом он недоверчиво вглядывается в лежащее посреди дождевой лужи бревно, приноравливаясь присесть, и не решается. – Смотри, как размокло, – вслух удивляется он, – а вчера здесь ничего себе было: и сухо, и солнышко, и пряники.
Венька привычно сыплет словами, а сам сдирает набухшую влагой кору.
– Вот уже почти сухо. Садись, Леха, я тебя учить буду, – Венька, видно, с утра настроился на покровительственный лад, но Лешка почему-то не чувствует на него вчерашней злости. И молча садится, неловко поджимая ноги.
Сколько помнит он Веньку – тот всегда был таким же. Другие менялись – толстели, худели, хромели, темнели, рыжели… А Венька оставался прежним – низеньким, юрким. Все так же цвело веснушками его светлое лицо, на котором беспокойно как-то сами по себе жили всегда готовые прицелиться хитроватым, понимающим взглядом серые, почти бесцветные глаза. Да, он никогда не менялся. Разве только заплат на нем становилось больше. И еще одно никогда не менялось. О чем бы ни говорил Венька, он всегда упоминал о еде. Вот и теперь.
– Ну, Леха, будешь и ты сыт, – уже в который раз повторяет он. – Значит, так. Сегодня в час дня идешь в сороковой дом, а я топаю в тридцать пятый. Главное, Леха, не робей. Зашел себе, скромненько поздоровался – и за стол. Начнут что выпытывать – тоже не робей. Скажи им, как меня мама учила: мол, не забуду вашей доброты и когда вырасту… А после «спасибо» – и все труды!
Венька, что-то вспоминая, неожиданно грустно прицеливается взглядом куда-то поверх сарая, и голос его на мгновение теряет поучающую уверенность:
– Ну, сначала стыдно будет, а потом обвыкнешь. Мама правильно говорит: стыд не дым – глаза не выест… Будь спок!
Лешка пытается уследить за Венькиным взглядом и тоже рассматривает крышу сарая. Еще вчера ветер золотистым вихрем ввинчивал в небо труху, а сегодня крыша лишь чуть-чуть дымится, подставляя солнцу черные расплывчато-влажные пятна. И земля дышит. Вьются над ней белесые клубы пара и, раскачиваясь, незаметно исчезают, растворяются в сияющей голубизне утра. Вот это да! Лешка удивленно рассматривает землю: темно-серую, усыпанную золотистыми щепками, густо истоптанную коровьими копытами.
Венька вдруг весело швыряет прутик на крышу сарая, и тот замирает на самой крутизне. Всего лишь на мгновение, а потом соскальзывает снова к его ногам. Ну и фокусник!
– А еще! – просит Лешка.
И Венька, скрывая самодовольную улыбку, небрежно подкидывает гибко изогнутый прутик. Теперь он лежит на крыше чуть дольше, словно не решаясь падать, но все-таки послушно летит к самой кромке лужи.
– Бог троицу любит, – повторяет Лешка где-то слышанные слова.
И Венька швыряет в третий раз. Может быть, чуть-чуть сильнее. Прутик перелетает дощатую вершину крыши и, уже невидимый, падает по ту сторону сарая.
– Не любит, – громко вздыхает Венька.
– Кто не любит?
– Ну, этот… Бог… троицы, – Венька смеется, а Лешка поспорить готов, что он здорово огорчен тем, что не удалось удачно забросить прутик в третий раз.
– Чтой-то жрать хочется, – уже совсем иначе вздыхает Венька. – Не люблю, когда жрать хочется. Ни о чем другом думать нельзя. Скорей бы обед! Ну и наедимся мы с тобой, Леха…Слышь, а тетя Феня, когда я ей о тебе сказал, так обрадовалась, что даже палочку свою уронила. Пришлось поднимать, – неожиданно вспомнил Венька.
– И что она тебе сказала? – нехотя поинтересовался Лешка.
– Это хорошо, говорит, что он не в мамочку свою пошел, что о себе подумал. Ну, и всякие другие слова… Но главное, обтяпала все быстро. Утром сказал ей, а в обед – топай, Леха, в гости! За бульбочкой с мясом или за картофельными оладьями с салом…
Но, увидев, что Лешка все так же молча сидит, не шелохнувшись, удивленно спросил:
– И чего ты ерепенишься? Тебе хотят как лучше, а ты…
– «Лучше, лучше», – передразнил его Лешка.
Нет, на Веньку он не мог долго сердиться. На Серегу Шивцева мог, на Борьку Сорокина тоже. Даже на маменькиного сынка Фимку Видова. Но не на Веньку. И в самом деле, чего он ерепенится? Жрать хочется так, что даже живот судорогой сводит. Тот кусочек жареного леща, который он проглотил утром с долькой хлеба, только сильнее напомнил о голоде. Думать ни о чем нельзя. Все жратва в глазах мерещится. Всякие там куски мяса с тушеной картошкой да оладьи, плавающие в жиру среди шкварок сала… Вот Венька и хочет ему все это подарить. Не надо будет притворяться сытым в душной, укутанной коврами и скользкими шелковыми занавесками Фимкиной комнате, стыдливо ожидая, когда Раиса Семеновна, по-вороньи картавя, произнесет: «Вот видишь, догогой, Лешка голодный, а учится на пятегки». А, убирая со стола всякие там блюдечки и мисочки, точно ошпарит словами: «И на здоговье, Фимочка! Если не учиться – так хоть есть он тебя, может, научит…» Нет, уж лучше, как Венька. Все ясно. Они знают, зачем пришел. И он тоже знает. Никакого притворства. Ходят же люди в столовую. И не расспрашивают их там – зачем пришли. Правда, там кормят за деньги, а у него никаких денег нет. Ну и что?! Вырастет и отдаст. Рассчитается. Привезет целый грузовик подарков и будет их развозить. «Это вам! Помните, вы меня пшенной кашей с салом кормили? А вам за мясо тушеное, за оладьи картофельные!» Вот это да! Ну и веселое будет время! И тете Фене какой-нибудь самый хороший подарок. Небось, удивится так, что снова свою палочку уронит.
Читать дальше