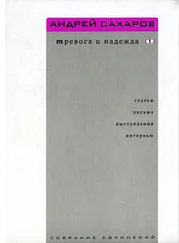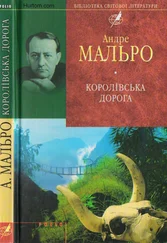— В этот час валькирии спускаются к убитым, — сказал Скали.
— Мадрид в пламени как будто говорит, обращаясь к Унамуно: «Что мне до твоих дум, если им неподвластна моя беда?..» Спустимся. Нам нужно в военное министерство.
Гарсиа только что пересказал Скали свой разговор с доктором Нейбургом. Из всех, с кем Гарсиа должен был повидаться за эти сутки, Скали был единственным, для кого рассказ Нейбурга значил столько же, сколько для него самого.
— Если интеллектуал, прежде мысливший революционно, нападает на революцию, — сказал Скали, — то, стало быть, он ставит под сомнение революционную политику с позиций… революционной этики, если угодно. И говоря всерьез, майор, разве вам нежелательна такого рода критика?
— Как она может быть мне желательна? Интеллектуалы всегда считают в какой-то мере, что партия — это люди, объединившиеся вокруг определенной идеи. Но партия — скорее характер в действии, чем идея как таковая! Если не выходить из области психологии, партия, пожалуй, — это организация для приведения в действие… ну, скажем, совокупности чувств, иногда противоречивых, и здесь эти чувства вызываются к жизни бедностью — унижением — Апокалипсисом — надеждой, а когда речь идет о коммунистах, это склонность к действию, к организованности, к созиданию и т. д… Выводить психологию человека из средств выражения, которыми пользуется его партия, для меня так же неубедительно, мой добрый друг, как если бы я сам стал притязать на то, чтобы вывести психологию моих перуанцев из их религиозных преданий.
Он взял фуражку и револьвер, повернул выключатель; электричество погасло. И отсветы пламени, которые оно сдерживало, тут же ворвались в кабинет вместе с дымом, медлительным и неотвратимым дымом пожаров, двигавшихся к площади Пуэрта-дель-Соль; и от запаха горелого дерева, принесенного этим дымом, у обоих запершило в горле. Багровое небо давило всей своей тяжестью на комнату без света. Над центральной, над Гран-Виа теснились кучевые облака, темно-красные с черным и такие плотные, что, казалось их можно потрогать. Скали снова подошел к окну, чихая и кашляя; хоть дым не стал гуще, он только стал заметнее. Мостовые были раскалены; нет, просто асфальт казался красным от бликов пламени, отражавшихся в его блестящей поверхности. Завыли брошенные собаки, сбившиеся в свору — нелепую, жалкую, надрывающую душу; казалось, они властвуют над всей этой скорбью и разрухой агонизирующего мира.
Лифт еще работал.
Они шли к Прадо под рыже-красным небом по черным улицам. В непроницаемой темноте вокруг них слышались те же звуки, что долетали в окно кабинета: Мадрид перевязывал свои раны. А навстречу им двигался другой шум: дробный перестук по асфальту.
— Унамуно не удастся умереть так, как ему бы хотелось, — проговорил Скали. — В Мадриде судьба приготовила ему похороны, о которых он мечтал всю жизнь.
Гарсиа думал о комнате в Саламанке.
— Здесь Унамуно оказался бы перед лицом другой трагедии, — сказал он, — и я не уверен, что он понял бы ее. Великий интеллектуал — человек оттенка, степени, качества, истины в себе, сложности. Ему по сути, по определению чуждо манихейство. Между тем средства действия характеризуются в манихейских категориях, поскольку всякое действие характеризуется в манихейских категориях. И особенно остро, если затрагивает массы; но даже если и не затрагивает, тоже. Всякий истинный революционер — прирожденный манихей. И всякий политик — тоже.
Он вдруг ощутил, что плотно сжат со всех сторон пониже колен. Раненые? В таком количестве — не может быть. Он повел ладонью, стараясь на ощупь выяснить, в чем дело. Свора собак? Как сильно запахло деревней и пылью!
Его сдавливало все плотнее, нельзя было шагу ступить. Цоканье по асфальту было жестче и торопливей, чем от собачьей побежки.
— Что это? — крикнул Скали, уже отставший от Гарсиа метров на пять. — Овцы?
Откуда-то донеслось блеянье. В поднимавшихся снизу волнах тепла Гарсиа нащупал наконец кнопку фонарика, и пучок пенящегося света выхватил сбоку облако, немногим более плотное, чем облака дыма: в самом деле, овцы. Гарсиа не мог разглядеть, где кончалось окружавшее их стадо: света фонарика не хватало. Но блеянье, перекликаясь, слышалось на расстоянии сотен метров. И ни одного пастуха.
— Сверните направо! — крикнул Гарсиа.
Стада, изгнанные с пастбищ войной, заполняли Мадрид, двигаясь к Валенсии. Пастухи — теперь они шли группами и при оружии — следовали, видимо, позади стада либо по улицам, параллельным бульвару. Но в этот миг стада невидимок, завладевшие Прадо, словно людям уже пришел конец, двигались среди пожаров, сбившись в плотную жаркую массу, и лишь слабое блеянье прорезало время от времени глухую тишину.
Читать дальше