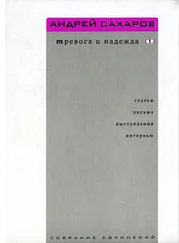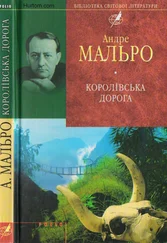Глава одиннадцатая
Мануэль с неизменной сосновой веткой в руке выходил из аюнтамьенто, где только что заседал военный трибунал: убийцы и беглецы были приговорены к расстрелу. Резче всех выступали против беглецов настоящие анархисты: всякий пролетарий отвечает за себя; то, что эти были введены в заблуждение фалангистскими лазутчиками, вины с них не снимает. Проехала автомашина, дождь размывал двойной треугольник света от фар.
«Они могут спокойно бомбить Мадрид, — подумал Мануэль, — ни зги не видно».
В тот миг, когда Мануэль проходил мимо дверцы, очертания которой можно было угадать лишь по полоскам света, выбивавшимся из коридора, он почувствовал, как кто-то метнулся к нему и чьи-то руки обхватили его голени. В пронизанном дождем свете электрических фонариков, которые сразу же включили Гартнер и остальные, Мануэль разглядел двух бойцов из своей бригады, они стояли на коленях среди вязкой грязи, обнимая его ноги. Лиц не было видно.
— Нас расстреливать нельзя! — крикнул один. — Мы добровольцы! Нужно сказать им!
Пушки смолкли. Кричавший не поднимал лица, голос его уходил в грязь, размываясь в немолчном шепоте дождя. Мануэль молчал.
— Нельзя! Нельзя! — закричал второй. — Полковник!
Голос был очень юный. Лиц Мануэль все еще не видел. Две пилотки прижимались к его ноге, и вокруг каждой в мутном свете фонариков между частыми дождевыми струями плясали капли, словно взлетавшие с земли. Мануэль все не отвечал, и внезапно один из приговоренных откинул голову, чтобы взглянуть на него: он подался всем телом назад, чтобы поймать снизу взгляд Мануэля, уронил руки и, коленопреклоненный, на фоне ночи и вековечного дождя, был олицетворением тех, кто всегда расплачивается. Лицо его, которое он только что прижимал, словно дикарь, к заляпанным грязью сапогам Мануэля, было все в подтеках: бурый лоб, бурые скулы, и только глазницы мертвенно белели.
«Я не военный трибунал», — чуть было не ответил Мануэль, но устыдился этого поползновения отмежеваться. Он не знал, что сказать, чувствовал, что из объятий второго сможет высвободиться, лишь оттолкнув его ногой, что было ему отвратительно, и стоял неподвижно под безумным взглядом кричавшего, который тяжело дышал и по лицу которого, исхлестанному дождем, стекали струи, словно он плакал всеми порами своей кожи.
Мануэлю вспомнились бойцы-аранхуэсцы, бойцы из пятого полка, как они, залегшие под этим самым дождем за низенькими стенками, удерживали позиции нынешним утром; он долго думал, прежде чем созвать военный трибунал, но теперь не знал, что делать; говорить — лицемерие, отталкивать — отвратительно: к чему читать мораль, расстрела довольно.
— Сказать… надо сказать! — крикнул снова тот, что глядел на него. — Сказать им!
«Что ответить?» — думал Мануэль. Оправдание этих людей было в том, чего никому никогда не выразить словами: в мокром лице с открытым ртом, глядя на которое Мануэль понял, что перед ним лицо того, кто извечно расплачивается. Никогда еще не ощущал он с такой остротой, что нужно выбирать между победой и милосердием. Нагнувшись, он попытался отстранить того, кто сжимал его ногу; человек вцепился еще отчаяннее, не поднимая головы, словно во всем мире для него реальностью была только эта нога, единственный заслон от смерти. Мануэль чуть не упал и сильней надавил ему на плечи; он чувствовал, что ему не оторвать от себя приговоренного, в одиночку тут не справишься. Внезапно приговоренный уронил руки и тоже поглядел на Мануэля снизу вверх: он был молод, но не настолько, как показалось Мануэлю. Теперь он словно шагнул за грань смирения, словно вдруг все понял — не только на этот раз, но на веки вечные. И с бесстрастной горечью человека, оказавшегося уже по ту сторону жизни, он проговорил:
— Что ж, теперь у тебя и голоса для нас не осталось?
И Мануэль осознал, что до сих пор не произнес ни слова.
Он сделал несколько шагов, и приговоренные остались позади.
Острый запах измокших листьев перекрыл запах солдатской формы — мокрого сукна и ремней. Мануэль не оборачивался. Он спиною чувствовал неотступный взгляд тех двоих, неподвижно стоявших на коленях в грязи под ночным дождем.
Глава двенадцатая
Яркая вспышка на мгновение залила кабинет подобием дневного света. Электричество было включено, и если Гарсиа и Скали заметили вспышку, стало быть, пламя взметнулось очень высоко. Оба подошли к одному из окон. Похолодало, поднимался легкий туман, примешивавшийся к дымкам, которые поднимались над сотнями догоравших домов. Сирен больше не было; слышалось только, как проезжают машины пожарных и скорой помощи.
Читать дальше