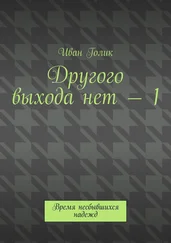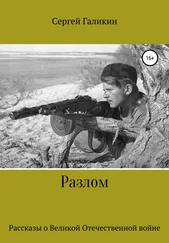Уже поздно вечером, спустившись с крыши, где было заново прибито несколько послабленных ветрами шиферин, уныло громыхавших над головой Евсеича долгими осенними ночами, Женька, моя в рукомойнике руки, вдруг, как что-то вспомнив, повернулся к деду, хлопотавшему у стола над ужином:
–Чуть не забыл, дедуль! Я на прошлой неделе твой сорок четвертый на памятнике видел!
–Да ну-у-у! –тот вполоборота развернулся,– не может такого быть, то ты ошибся, Жень. Их не ста-а-вят, – Евсеич открыл синего цвета шкафчик, с большим цветным портретом Сталина под стеклом дверцы, доставая две стеклянные рюмки, – в основном-то послевоенного покроя «тридцатьчетверки» восемьдесят пятые повсюду стоят. Даже там, где «Шерманы», хе-хе-хе, проходили. Не-не, ошибка!
Женька, вытирая ярким полотенцем руки, вплотную подошел и, заглядывая в выцветшие, под густыми белыми бровями, дедовы глаза, сказал:
–А вот и нет никакой ошибки, дед! Точно такой, как на той фотке, где ты с комкором своим снят. В Жуковке возле школы стоит. Это вот, рядом, по трассе километров шестьдесят будет. Так, на небольшом постаменте…Веночки, цветочки, ну, все, как положено.
–А ну, гляди еще, он? А?! –Евсеич уже, бросив кухарить, достал из глубин сундука потрепанный, красно – бордового цвета, фотоальбом и, раскрыв его на нужной странице, задрожавшим вдруг голосом, пристально вглядываясь в лицо внука, спрашивал, заметно волнуясь, -ты хорошо, давай, гляди, я ведь…Я его, гм, гм…уж сколько годов, после войны так и…н-не видел ни разу, -и дед суетливо смахнул с глаз слезу, быстро отвернувшись, стал сморкаться в платок. Женька, едва взглянув на снимок, поднял глаза и удивленно уставился на старика:
–Ну ты даешь, дедуль…Как будто это не железо, а…живой человек! Я просто тащусь с тебя… Да он же! Ну вот. Он!! Че ж я, слепой совсем, что ли…
–А-а-а… Люк у него впереди, ну, мой, лю-юк механиковский…есть? –все никак не унимается, не скрывая волнения, аж пританцовывает старик,– ну, впереди, на лобовой? Есть?
–Нету там никакого люка, только щели…эти…смотровые.
–Триплекса. Ага-ага…Точно, Жень! Не «тридцатьчетверка» ! А не «Матильда»? Та не, не-не, такого и вовсе быть не может… Во-от, обрадовал-то! Он, едрена вошь!
За ужином Евсеич все места себе не находил. Вроде с внуком беседу ведет, а сам-то куда-то мимо глядит!
Женька аж обиделся: про что речь не заведет – дедуля все на тот танк разговор переводит! Потом и вовсе загорелся:
–Все! Завтра же отвези меня к нему! Я его перед смертью хоть потрогаю…А вдруг, мой, а, Жень? Ну, тот самый, а?..
–Не, дед. Твой же весь поперелатанный был, пробоины позаклепаны. Ты сам говорил… А этот, видно, и в боях-то не бывал. Новенький какой-то! Так, хватит! –внук попытался перевести разговор в другое русло, -завтра с утра ополоснусь в речке и заедем к бабе Поле на кладбище. Хоть там-то бурьяны у тебя не стоят? Смотри мне!
Легли спать. Женька с дороги неблизкой да под водочку – уснул тут же и глубоко. А Евсеич глаза только сомкнет, полежит-полежит, нет, не спится! Не уснуть старику, разнылась что-то старая рана старая, душевная. Они, раны эти, рубцуются-то вроде незримо, а болят – хужей, чем зубы.
Очухался Иван уже на полу холодном, бетонном, в полумраке. Сел, качаясь, выхаркнул кровавое месиво со рта. Разгреб на ощупь, два своих зуба там нашел. Еще два шатаются. Башка как горячими гвоздями набита, тяжела и гудит, спасу нет. Полез в угол, рукой топчан нащупал, хотел было забраться на него, остро кольнули ребра, да и не хватило сил в руках. Опершись спиной о край топчана, стал мучительно вспоминать, что было-то…
Комкор, всю дорогу молчавший, когда привез его в штаб армии, улучшив минуту, едва остались они одни, взял его крепко за плечи, с оторванными хлястиками погон, и, в глаза пристально заглядывая, говорит, чуть не плача:
–Что ж ты…наделал, Ва-ня!! Ведь расстреляют, дурака-а… А я на тебя, родной ты мой, уж представление на Героя готовил…– и умолк, голову бессильно уронив.
Иван угрюмо молчит. Сказать тут нечего.
Тот опять:
–Где башка-то твоя была-а… Эх! Да я!.. По правде говоря, этого алкоголика и придурка Соболева и я…бы… С нашим удовольствием… Но! За ним Гордов стоит, они вместе когда-то водяру жрали да баб… Ну, а за тем –сам Жуков, вот что скверно, Ваня! Э-эх, Ваня! Ты ж один из той первой моей, начисто полегшей, бригады и остался! И то, только потому, что меня, считай, покойника, выноси-ил! – он глубоко вздохнул, опустил бессильно голову и на минуту задумался. Поднял сухие строгие глаза, заговорил уже другим голосом: – Слушай сюда. Пока тебя смершевцы мордовать тут будут, ты потерпи, браток. Ничего такого им ты …не подписывай! Понял? Я попробую с Рокоссовским переговорить… Может, и поможет чем. А может, нах…й пошлет, накануне такой операции, не знаю. Хоть бы штрафроту тебе, дураку, выпросить…
Читать дальше