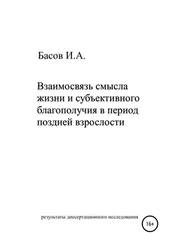Я иду к Македонскому — спуск, подъем, снова спуск. Когда же конец этой проклятой тропе? Осенью я часто ходил по ней, она мне тогда казалась поровнее и покороче.
— Передохнем, товарищ командир. — Семенов смотрит мне в глаза.
— Остановимся — не поднимусь. Шагай!
А кручи, кручи! Не дышу, а хватаю воздух застуженными легкими.
Семенов сухопар, легок, не поймешь: устает или вообще не знает, что это такое. Повсюду одинаков — и сытый и голодный, и на головокружительном спуске, и на подъеме чуть ли не под прямым углом. Старается мне помочь, но с тактом, не навязчиво.
Наконец-то! Тропа пошла ровнее. Темнее — вступаем в Большой лес. Еще бросок, и мы у Македонского. Ощупываю подбородок — не брит. Да ладно уж…
Македонский встречает оживленно:
— Здравия желаю, товарищ командир района!
— Чего такой веселый?
— Веселые вести имею.
— Выкладывай, повесели и меня.
— Вернется из разведки мой Иван Иванович — доложу, чтобы было вернее.
Македонского и голод не берет: плечи — косая сажень. Нет, берет все же: щеки провалились и под глазами нездоровые круги.
— Чего звал как на пожар? — сержусь я.
— Побриться бы тебе, а? — предлагает душевно.
— Где, чем? Может, брадобрейную устроил?
— А на что Тома Апостол? Кудесник. Да и бритва у него эккерская.
— Тот самый румын, что ли?
— Так точно.
Тома, шустренький грек-румын, будто тугими винтами стянул мое лицо. Пальцы его со смолистым душком ловко массировали кожу, плясали на изможденных щеках, как палочки по натянутой барабанной шкуре. Брил без мыла, но боли я не ощущал и медленно засыпал.
Отдохнувший, выбритый и вымытый, обходил партизанские группы.
Голодная блокада леса сказывалась и здесь. У бахчисарайцев уже второй день в общем котле липовые почки да молодая крапива… Скулы заострились, но отчаяния в глазах я ни у кого не заметил. Македонский со своим комиссаром Черным всячески побеждал голод.
Как?
Движение, еще раз движение… Никому не давали и часа покоя. Того — в разведку, другого — на патрульную службу, третьего — за мороженой картошкой на Мулгу четвертого — ловить силками соек, пятого — глушить форель в горной речушке, шестого — искать на чаирах дикий чеснок.
Поел и я супа из липовых почек. Не знаю, чем его заправляли, но что-то мучнисто-клейкое чувствовалось.
Македонский водил меня по лагерю и расспрашивал подробно, как идет жизнь в других отрядах, сколько можно поставить под ружье людей и как там наш сосед — Георгий Северский со своими отрядами, смогут ли нам помочь в случае надобности?
— Уж не собрался ли ты штурмовать ханский дворец в Бахчисарае?
Македонский прячет сверкающие глаза. Вдруг увидел Ивана Суполкина, размашисто зашагал к нему, таща меня за собой, крикнул:
— Ну, Иван?
— Все в порядке, мукичка должна быть.
— Должна или есть?
— Есть, есть, вот только солдат поднаперли.
— В Шуры? — ахнул Михаил Андреевич.
— В Ауджикой.
— Тьфу, испугал, чертяка! Что еще скажешь?
— Ничего больше того, что ты знаешь.
— Иди отдыхай.
Македонский о чем-то задумался.
— Может, пора кое-что и мне сказать, — поторопил его.
— Есть у меня одна задумка, заковыристая.
— Выкладывай.
— Дело с переодеванием в румын…
— Что? — Я не поверил ушам своим. Появление у немцев в их форме, всякие штучки с проникновением чуть ли не в спальню командующего… До этого ли нам.
Македонский понял мои мысли:
— Все обдумано, никакой авантюры.
— Что обдумано, что ходишь вокруг да около? Докладывай!
— У нас румыны — раз! Сам Тома Апостол — два. Одетых в румынскую форму партизан до взвода наберется.
— Откуда румыны, что за особа Тома Апостол?

Тома Апостол пришел в отряд сложным путем.
Зимой 1942 года румынские дивизии дрались против защитников Севастополя и нас, партизан, что называется, в полную силу. Не только офицеры, но и часть солдат еще верили немцам, в газетах писали о некой Трансднестрии с центром в Одессе, которую якобы «союзники» — немцы — «навечно» оставили под властью «Великого вождя Антонеску».
И все-таки отдельно взятый солдат-румын представлял для нас опасность куда меньшую, чем солдат-немец. Румыну доставалась неудобная и более опасная боевая позиция, он отдыхал в домишках, которыми пренебрегали немцы, из награбленного он получал крохи — одним словом, по всем статьям находился на положении пасынка. Солдат не знал, за что он воюет, во имя чего и кого он обязан класть свои косточки на чужой земле.
Читать дальше