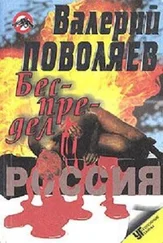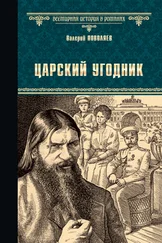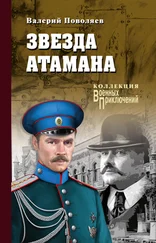Он еще раз взглянул на листок письма, обвел глазами слова, полные для него разгромного смысла, совсем не обращая внимания на последнюю фразу, где Зинаида писала: «Как скажете, дорогой товарищ сержант Иван Сергеевич, так и поступлю». Он страдал, мучился, как грешник на огне, от собственного бессилия, от тупой невзнузданной ярости, от тоски, полой и продолжительной, — да, от уже начавшейся тоски, хотя и знал, что настоящая тоска придет позже, когда отправится в путь-дорогу письмо с ответом.
Ответ мог быть только один, другого просто не существовало для Лепехина — Зинаиде надо было выходить за раненого лейтенанта; он вдруг подумал, что небось ходит этот Бурыкин по Словцам надраенный и торжественный, словно крейсер на параде, блистает орденами и нашивками, клюшечкой помахивает, девчат очаровывает, госпитальный сердцеед… Да, ответ мог быть только один; Лепехин с телескопической ясностью, увеличенной в несколько раз, увидел вдруг Зинаиду — женщину в обелесенной солдатской гимнастерке, туго обхватывающей грудь, с полными губами, нежными, в редком соблазнительном пушке щеками, с высоким милым и строгим лбом, в глазах играют, ходят взад-вперед добрые смешливые блестины; он зажмурился, прогоняя видение, и Зинаида исчезла, оставив свой запах и след. Когда открыл глаза, то перед ним был все тот же чертов Мессенгоф; двухэтажный жиловик уже догорел, и в нем ничто больше не рвалось, в леске, начинавшемся в полукилометре от хутора, редко и незлобно постреливали.
Лепехин покривил губы — Зинаида принадлежала ко времени, ушедшему, чтобы не возвратиться. Прекрасному и горькому времени. Это истина, а истину надо принимать, какой бы нежеланной она ни была.
Он провел рукой по воздуху, не видя ничего; со стороны этот жест не казался странным, в нем была обыденность, полная бытового смысла, будто Лепехин хотел собрать пороховую сизь в ладонь, счистить ее с воздуха, твердого, осязаемого, материального.
— Ладно, — сказал он тускло. — Схороним что было. Ничего не было… Выходи замуж!
Вот и вся история.
Хотя нет, не вся… Уже в сорок шестом, весной, демобилизовавшись, сержант Лепехин возвращался из Германии к себе на родину. По пути, как это часто бывает, случилась задержка, сейчас уже трудно вспомнить, что было тому причиной — то ли Лепехин сам пожелал, то ли железнодорожные неурядицы помогли, а может, и то и другое, вместе взятое, — в общем очутился Лепехин в знакомом украинском селе, быстро нашел нужный домик, подивился перемене — Зинаидины хоромы были свежепобеленными, с новой, собранной из толстощепленного теса крышей, а вокруг посверкивала гладко обструганными колышками изгородь, поставленная вместо плетня. В палисаднике цвела обильная пахучая сирень, розово-фиолетовая, дурманящая; от крупных, плотно сбитых гроздей веяло теплом и жизнью, еще за изгородью буйно зеленел огород, морковка, огурцы, свекла так и перли из земли, грядки даже трещали, яблоньки были побелены и вкопаны — чувствовалось, что в хозяйстве есть мужская рука. У калитки, словно дожидаясь кого, стояла красавица девчонка, очень отдаленно напоминавшая ту, виденную два года назад. Длинноногая, невозмутимая, с оттянутыми к скулам глазами, с трогательным овалом лица, нереальная и прекрасная в своей юности. «Вот подарок какому-то парню растет, — подумал Лепехин. — Не жена будет, а богиня. Неужто это Зинаидина Мария, Маша?» Ему захотелось постоять отрешенно и посмотреть на девчонку, как на некое произведение искусства, со стороны, как, к примеру, смотрят на русские иконы в церквах, на богинь, чьи дивные изображения он уже видел в Германии.
— Здравствуйте, — тихо произнесла девчонка. — А я ваше имя-отчество знаю.
— Ну? — очнулся Лепехин, повел головой, враз поверя девчоночьей серьезности, ее рано созревшей ладности, сообразительности, идущей не от интуиции, а от верткого напористого ума.
— Как у великого русского писателя имя-отчество. А вот фамилия у вас смешная. Ле-пе-хин, — протянула она нараспев. — Что-то такое… Знаете… От коровьего котяха… Ох, простите меня, пожалуйста, — попросила она, увидев, что темнолицый, пахнущий пылью и паровозным маслом сержант вдруг поугрюмел лицом, а в глазах у него появилось отражение туч.
— Где же мама? Где Зинаида Григорьевна? — спросил Лепехин.
— Мама? — тихо переспросила Маша, посмотрела себе под ноги. Она была обута в тапки-коты с давлеными задниками. Очертила носком тапки кружок, обувка свалилась у нее с ноги, обнажив длинную узкую ступню с белыми, тонко просвечивающими пальцами. — Мама проводником на пассажирский поезд устроилась работать. Сейчас в рейсе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу