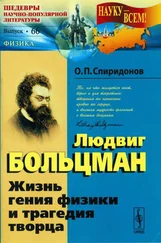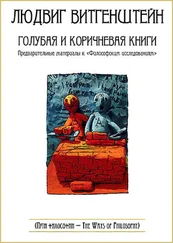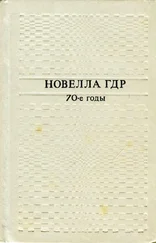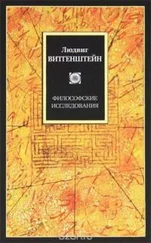— Я доволен, — сказал командующий, — отличной выправкой и бодростью духа третьей роты. И в первую очередь выражаю одобрение командиру роты, который так быстро нашелся в столь неожиданной для него ситуации в связи с поставленной задачей.
Мы гордились похвалой и нашим лейтенантом и презирали четвертую роту из-за ее неудачника-командира лейтенанта Эгера.
На другой день мы снова возвратились на наши прежние позиции.
XI
Пока мы занимались строевой подготовкой в тылу, прибыли новые книги. И среди них история философии. Меня возмущало, что нам, в наших полевых условиях, посылают такие книги, но вместе с тем отчасти и радовало, поскольку мне всегда хотелось почитать что-нибудь в этом роде, и я принялся за чтение.
В книге речь шла о числах. Что бы это могло значить? Каким образом число может представлять собой первичную материю, из которой в конце концов воздвигнется здание мысли?
Я терзал свой мозг, ища ответа, я очень старался. В отдельных философских сентенциях я улавливал смысл. Однако все это было не то, чего я искал.
Я читал, курил и размышлял.
И еще писал. Уже в третий раз я описывал сражение под Люньи. Когда я отрывался от письма и вставал, меня знобило, я цепенел, но потом во мне пробуждалась веселость и проясняла все, что я видел. Когда же я отрывался от философии, все представлялось мне серым и мрачным.
Я заметил, что писатели выбирают произвольный порядок слов, хотя существует ясная необходимость правильной их расстановки, иначе говоря — в той последовательности, в которой их должен воспринимать читатель. Не так, например: зеленый, вползающий на вершины холмов луг; не так, потому что сначала нужно оповестить, что речь пойдет о луге, и поэтому это слово следует поставить в предложении первым. Для того чтобы отчетливо представить себе что-то важное, я всегда рисовал себе целую картину со всеми подробностями: распределение света и тени, каждый шорох, каждое движение души. После этого я садился писать и отбрасывал все, что не было абсолютно необходимым. Но такая схема совершенно не подходила для выражения самого важного: мне постоянно не хватало слов. Я пытался использовать необычные слова. Не помогало. И корпел над этим целый день. Вечером, когда я лежал на соломе, меня иногда вдруг осеняла мысль. Но наутро, трезво оценив ее, я от нее отказывался. Всякий раз мне не хватало чего-то одного, только я не знал — чего именно. Ясно, думал я, мне не хватает какого-то познания. И я продолжал искать его в истории философии. Через два месяца я проработал всю книгу от корки до корки, и однажды вечером, прочитав последнюю страницу, поднялся ни с чем. Каждый философ говорил свое, и в том числе совершенно новые и не имеющие ни к чему отношения вещи. Единого мировоззрения нет, так как есть много мировоззрений, и все они ни ложны, ни правдивы. Я отказался от надежды что-либо уяснить себе.
XII
Я получил увольнительную на десять дней для поездки домой. Фельдфебель вручил мне отпускное удостоверение. Свое описание наступления я завернул в большой лист бумаги, чтобы оставить его на хранение у матери. Я дошел до описания битвы на Марне. Остальное казалось мне нестоящим.
На следующее утро, не выспавшись, я уже шагал в темноте по улице без единого дерева к маленькой железнодорожной станции.
Поезд отошел.
Медленно занималась заря.
Не странно ли, что именно сейчас я разделался со всем — и с наступлением, и с историей философии. Я раскрепостился от всего, я был свободен — но для чего? Есть ли еще что?
Мать выбежала мне навстречу из дома, обняла и расцеловала. Если бы она знала, что творится у меня на душе, если б знала, что я уже ни во что не верю, стала ли бы она целовать меня?
Я ничего не сказал, не ответил на ее поцелуй и смущенно последовал за ней в дом.
Золовка стояла в комнате и подала мне руку. Она сразу заметила ленточку Железного креста у меня в петлице.
— Хочешь кофе, дружок… У вас есть.
— Сначала я хотел бы умыться.
Она проводила меня в одну из двух верхних комнат, которые обычно всегда стояли на запоре. Здесь для меня была приготовлена постель. Пахло нежилым. Мебель хорошо сохранилась, но имела какой-то безжизненный вид, из-за того что ею редко пользовались.
— Устраивайся! Когда спустишься, все уже будет готово.
Она вышла. Я снял мундир. Теперь мне отвели комнату для почетных гостей. В семье я теперь что-то значил.
На столе, покрытом плюшевой скатертью? — лежал альбом с фотографиями. Я раскрыл его. Увидел фотографию деда — тучного, с гордым выражением морщинистого лица. А вот мой отец, еще совсем молодой. Он в небрежной позе сидел на стуле и так доверчиво смотрел на меня! Должно быть, что-то было тогда такое, чего я не знал. Быть может, им тоже, как и мной, владели высокие мысли, а однажды вдруг стало ясно, что впереди ничего нет.
Читать дальше