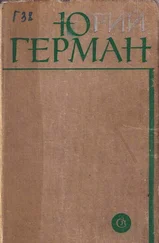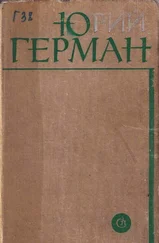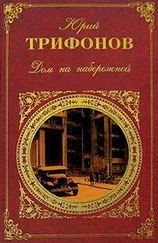Пришла мама. Оказывается, дядя Женя уже уехал на войну, а мама его провожала.
Вечером мы ложимся с мамой в одну постель. Она тихо плачет, и мне нечем ее утешить. Я начинаю рассказывать и неуверенно хвалю Борю.
— Ах, оставь, Ната, — говорит мама, — все это глупости. Будет большая война, и многие очень хорошие люди погибнут в этой войне. Детка моя милая, доченька моя!
Так мы лежим и плачем обе, пока не является папа. Он садится в ногах и ест батон с маслом, потом ищет табак и сердито сопит. Поблескивают стеклышки его пенсне.
— Ты получил назначение? — спрашивает мама.
— Почти.
— Куда?
Он что-то сердито объясняет, какие-то свои сложности, мне не понятные, но совершенно ясные маме.
— А туда кто поедет главным хирургом? — спрашивает мама.
Пана отмахивается. Он раздражен до последней степени. Но вдруг говорит;
— Тебе, кажется, удастся ехать со мной! Рентгенологом. Вот только как быть с Натой?
— Что значит — как быть? — спрашиваю я. — Я здоровая, молодая студентка-медичка. Неужели я останусь в Ленинграде? Правда, я еще ничего не знаю, но санитаркой ведь я могу быть? Могу или не могу?
Отец скептически смотрит на меня:
— Неважной можешь.
Мне обидно. Я молчу. Отец всегда грубоват с домашними и холодно-вежлив с посторонними. Пауза. Внезапно мама спрашивает:
— Александр, а ты обязательно должен быть на фронте?
— Я тебя не понимаю, — отвечает отец.
— Вот ты хочешь ехать фронтовым хирургом. Но всегда есть еще глубинные тыловые госпитали. Мне кажется, что твое научное имя и твоя ученая степень… наконец, ты беспартийный…
— Ну и что же?
— Мы могли бы работать все вместе, всей семьей…
Рядом в кабинете звонит телефон, и этот разговор, ужасный и постыдный, прекращается.
— Мама, не надо, — шепчу я, когда отец выходит, — мама, не надо, ни за что не надо, ты же его знаешь, зачем ему это говорить. Если ты не хочешь на фронт, не езди, но ему не говори, не говори ничего, ни за что…
Из кабинета отец не возвращается. Я встаю и иду к себе. Он равнодушно подставляет мне лоб для поцелуя.
— Не сердись на маму, — прошу я.
— Не твое дело, — холодно отвечает он.
Я пишу дневник и слышу, как он ходит по кабинету. Какое у него железное лицо сейчас, неприступное, невозможное! И долго, долго не будет теперь мира в нашей маленькой семье. Ни войны, ни мира. Он станет чужим человеком для матери, а она будет плакать и ломать руки. И любить я буду его, а не ее. Спокойной ночи, мой милый, с тяжелым характером, грубиян, непокорный, непримиримый, милый отец. Как бы мне хотелось быть такой, как ты.
СУББОТА
Поря Вайнштейн с каждым днем все больше и больше превращается в военного. Сегодня он подвесил к своей сумке компас и вооружился свистком.
— Если удастся задержать парашютиста, то свисток окажется очень кстати, — объяснил он моей маме.
Мама вдумчиво покивала головой.
На чаем Боря принялся делать прогнозы.
— А зачем у вас термос? — спросила мама.
Оказалось, что термос Боря носит на случай воздушной тревоги. Если случится воздушная тревога, и надо будет долго сидеть в бомбоубежище, то Боре может захотеться пить, а в термосе у него теплая вода с повидлом.
— Вы же знаете, у меня бывают приступы такого как бы овечьего кашля,…
Мне стало смешно и немножко противно, Выдумал себе какой-то овечий кашель. Но он продолжает говорить о том, что надо скорее на фронт бить фашистов, переходить в наступление, обрушиться на них лавиной, смять, уничтожить, раздавить.
Подошла к телефону, вдруг слышу папин голос: «Приезжай». Я приехала. Он сидит в ординаторской один, сутулый, усталый, грустный. Перед ним бутылка боржома и стакан. Как я люблю его, когда он в халате, и не в профессорском, а в длинном, с завязками, подпоясан бинтом, на голове шапочка.
— Приехала?
— Приехала!
— Ну, садись, посиди…
Я сажусь. Пирогов смотрит на меня со стены своими косыми глазами. Папин бог — Пирогов. Он всюду с собой таскает этот портрет и наверняка повезет его на фронт.
— Что мать?
— Ничего, здорова.
Не слушая ответа, он кивает головой в белой шапочке. Он лысый, у него мерзнет голова, и потому он в клинике почти никогда не снимает белую шапочку.
— Хочешь боржому?
Я не хочу, но, зная, как он любит боржом, делаю вид, что хочу пить. Он смотрит на меня и вдруг говорит:
— Ты уже взрослая девушка, Наталья, и должна понять меня. Елена Павловна всегда всего боялась. Даже темы моей диссертации. Она считала ее слишком рискованной. Я знаю, что у меня тяжелый характер, я знаю…
Читать дальше
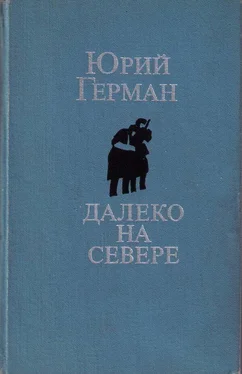
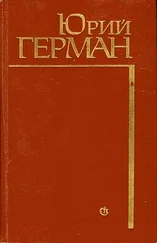

![Юрий Герман - Чекисты [Сборник]](/books/80038/yurij-german-chekisty-sbornik-thumb.webp)