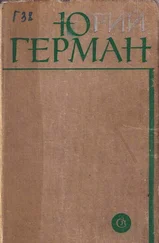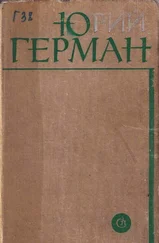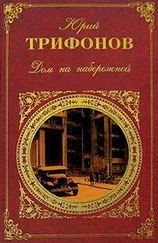У нас было порядочно раненых, которые нуждались в срочной помощи, были контуженые и ушибленные. Особенно запомнился мне почему-то наш маленький кок Пиушкин, который очень сердился на то, что его правую руку уложили в лубок и забинтовали. Топким, брюзжащим голосом он говорил, что с его рукою ничего решительно не случилось, чтобы ее только намазали почему-то мазью, и тогда, дескать, «оно» перестанет ломить, Говорил он быстро, много, частил, сыпал слова и, заметив меня, скороговоркой спросил:
— Товарищ капитан второю ранга, разрешите обратиться? — И заговорил печально, быстро, в одну ноту: — У меня на камбузе, капитан второго ранга, шляпа и потеряха, у меня греча матросам на кашу для завтрашнего обеда жарится, он мне гречу, Забелин, спалит, я его знаю…
— Сидите тихо, Пиушкин, — приказал я.
— Есть! — крикнул Пиушкин, забормотал какой-то вздор и забылся.
Ранен был и наш Витечка, молодой штурман, Он лежал на узких корабельных носилках, смотрел в потолок, а Лева копался каким-то блестящим, длинным предметом у него в боку и советовал:
— Ты, Виктор, охай, легче будет. Я же знаю, что тебе больно. Я вижу, что ты молодец, что ты терпеливый ж стойко переносишь боль…
— Это не боль! Это вздор! — сказал Виктор.
— Не вздор. Совсем не вздор. Ты поохай или постони, тебе легче будет.
— Если все начнут кричать или охать, то тут с ума сойдешь, — неестественно веселым, напряженным голосом сказал Виктор. — Верно, товарищ комдив?
Я присел возле носилок и немного поговорил с Виктором. Он мне чем-то не понравился — как-то он странно глотал воздух, но я не обратил на это внимания, такой он был веселый и ясный, наш Виктор.
Кают-компания была полна ходячими, сидячими, лежачими ранеными. При ярком, режущем свете электрических лампочек было странно видеть привычные, всегда прежде румяные, загорелые, лица внезапно побледневшими, с заострившимися чертами, с глазами, полными страдания и боли. Но эти люди, которые не властны были над своим поведением, непрерывно, наперебой, до того что это было даже несколько утомительно, силились острить и шутить. Тут никто не смеялся шуткам, но шутки и остроты помогали людям, как помогают обезболивающие — морфий или пантопон, при посредстве шуток и острот люди и тяжелых страданиях оставались людьми, не потерявшими облика веселого мужества…
Несколько раз называли меня по имени и отчеству Павлом Петровичем, и, хоть это не положено, я не возражал, потому что бывают секунды совершенно особой близости командира с подчиненными, близости удивительной, когда старший начальник знает, что матрос или старшина сделал в бою все, что мог, и больше того, что мог, а подчиненный знает, что начальнику это обстоятельство известно. Только что бой кончился, совсем недавно отгремели последние разрывы, и вот встретились начальник с подчиненным, оба друг другом довольные, оба друг другу доверяющие и оба только что это доверие проверившие делом, боем, огнем. Встретились, и надо что-то поговорить, как-то выразить то, что содержится в сердце, а выразить трудно, потому что не принято у нас говорить красивые и приятные слова. Ну и произойдет такой не примечательный для стороннего разговор, а для нас он окажется очень существенным.
— Ну как, Павел Петрович? — спросит какой-нибудь раненый. — Ничего, не поцарапало нас?
— Все нормально, Горбаченко.
— Ну и хорошо, что нормально, товарищ комдив. Извиняюсь, что побеспокоил.
— Поправляйтесь, Горбаченко. Спирту-то вам дали?
— Порядок, Павел Петрович.
Вот так один окликнет, другой. Таким, манером окликнул меня командор Григориев, и мы с ним покурили. У него все лицо было перевязано, а вместо рта было только отверстие, куда он вставлял свернутую мной для него папиросу. Мы покурили немного молча, а потом он сказал:
— Старшего лейтенанта нашего нету. Вот горе.
Я промолчал. Он выпустил из своего бинта много дыму и повторил:
— Горе. Очень его матросы жалеют. Женка молодая осталась, ребенок будет. Я вот все, товарищ комдив, думаю. Может, с ВВС договорилось бы начальство, парашютистов туда сбросить, поискать. Наши бы матросы все добровольно охотниками пошли.
Он смотрел на мепя одним глазом, выжидая.
Хотелось пить, я опять попил воды в кают-компании и вышел на мостик.
Корабли шли в чернильной тьме, моросил дождь, шумело холодное море.
Помощник, навалившись грудью на обвес, всматривался во тьму, снизу из своей рубки посвистывал в трубу штурман, командир ходил, сложив руки за спиною, — два шага вперед, два назад.
Читать дальше
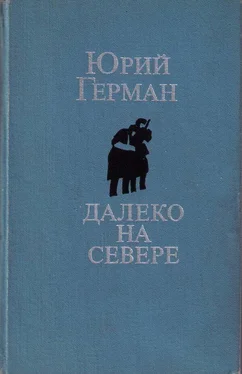
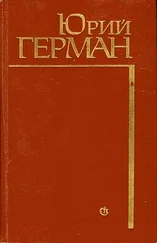

![Юрий Герман - Чекисты [Сборник]](/books/80038/yurij-german-chekisty-sbornik-thumb.webp)