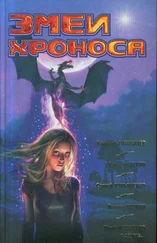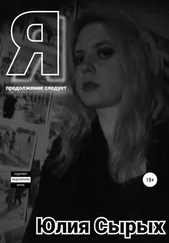Хочу доложить о замеченном командиру дивизии, но он опережает меня:
— Слушай, бээмовец, видишь, что там происходит? — Бээмовец — это в данном случае вроде комплимента: БМ — артиллерия большой мощности. — Видишь? Дай-ка им покрепче. Хотел «катюшников» просить, но у них начштаба куда-то ушёл. А без него приказы недействительны.
Полковник говорит со мной особенно ласково потому, что знает: у меня лимит на снаряды. Столько-то в день и не больше.
Но кроме официального боезапаса было у меня и некоторое количество «зажатых» снарядов, оставшихся от прошлых стрельб, но списанных как израсходованные. Мой личный секретный резерв.
Нет, значит, первая кривда была раньше.
— Давай, очень прошу, — продолжает полковник. — У тебя там как раз камень пристрелян. Я видел разрыв. Чуть правее и дальше — прямо в самую колонну попадёшь... Бей на уничтожение. Штук сорок, я отвечаю.
Они, конечно, далеко не уходят. Их перебрасывают на соседний участок. Пятьсот человек. Я знаю, что это такое в условиях горной войны. Иногда два пулемётчика засядут в ущелье, в скалах — и целый полк лежит, подняться не может.
«Девятка» даёт выстрел первым орудием — снаряд падает около колонны, и — залп всеми четырьмя.
В колонне, накрытой разрывами, возникает замешательство. А «девятка» переходит на беглый огонь, и в считанные мгновения немецкий батальон накрывают шестнадцать разрывов.
Люди бегут назад, орудия увеличивают прицел, и снаряды снова рвутся в их гуще.
Поле вымирает на глазах. Только скачут по нему большими кругами, как на ипподроме, несколько лошадей.
Слышу в трубке голос полковника:
— Спасибо, бээмовец! Выручил!
А вслед за этим — уже по линии с батареи — другой голос:
— Ты что расстрелялся? У тебя вся огневая стреляными гильзами забросана! Тебе давали лимит?
Это нагнавший на машине «девятку» командир дивизиона. Мои объяснения он не принимает.
— Иди к командиру дивизии и возьми у него справку, что за перерасход снарядов отвечает он! А тебя за такое самовольничание накажем...
Обещаю справку достать. Но сам я к командиру дивизии не пойду, пошлю командира взвода управления. Вдруг возникнут какие-либо чрезвычайные обстоятельства, а командир батареи за справкой ушёл...
...Я оставляю НП. На нём всё равно делать нечего. Иду к домику, и в это время всё вдруг в моих глазах взрывается, меня бросает в сторону, я падаю и вижу сквозь дым разрыва бегущих ко мне товарищей — Бородянского, Маликова, Шатохина.
Спрашивают:
— Ранило?
Это был лёгкий щелчок в бедро. То, что я ранен, я не почувствовал, а увидел: на ноге кровь.
Больше наш НП немцы не обстреливали. На макушку горы упал один-единственный снаряд — мой.
Снял с себя полевую сумку. В ней лежали вещи, с которыми командир батареи не расстаётся никогда: карта, томик «Таблиц стрельбы», логарифмическая линейка, циркуль, хордоугломер, целлулоидный круг.
Сказал Бородянскому:
— Я отвоевался. Принимай «девятку».
Маликов и Шатохин повели меня в бункер на перевязку. Я шёл довольно браво. Сам спустился по лестнице, лёг на цементный пол и встать уже после не мог.
С горы тащила меня лошадь на плащ-палатке, прибитой к двум длинным жердям.
Жерди царапали концами по земле, по камням, носилки подбрасывало.
Долго волокла меня лошадёнка.
А внизу, у подножия горы, стоял уже газик-полуторка и меня ждала вызванная по радио Любка.
— Господи, как раскровился! Ах, ах! Все в конце концов ко мне попадают. Только одна я вечная! Ребята, поднимайте его на машину!
В медсанбат меня везли Маликов и Любка.
Машину кидало на ухабах разбитой дороги, и, кажется, я скрипел зубами. Любка говорила:
— А если я тебя целовать буду — тебе станет легче? Ну, а теперь?
Когда к машине подошли санитары, мы обнялись с Маликовым и с Любкой. Настала минута грустная и тяжёлая. У меня даже боль в ноге, кажется, приутихла. Маликов и Любка были последней ниточкой, которая ещё связывала меня с теми, с кем шагал по дорогам войны два долгих фронтовых года.
Прощай, «девятка»! Хорошая, дружная, боевая, весёлая, никогда не унывавшая «девятка»! Ты навечно стала частью моей жизни. Самым дорогим, что у меня было. И я стал навсегда частью твоей.
Восемьдесят человек. Бойцы орудийных расчётов, трактористы, связисты, разведчики... Я знаю и помню глаза каждого. Помню и знаю, что каждый совершил. В каждого верил, верил, верил!
И уже с носилок я ещё раз помахал рукой Маликову и Любке.
В медсанбате, в огромной, просторной палатке мне дали полстакана водки, положили на стол, сунули под нос резко пахнущую вату, заставили считать.
Читать дальше