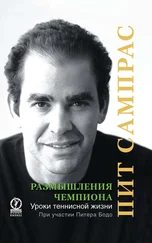— Тяжкий путь, — продолжал он, раскурив сигару, — тяжкий! Многие сломают себе шею, большинство застрянет на полдороге. Единственно стоящий путь! Единственный путь к вершинам в наше время!
И горячо воскликнул:
— Война неизбежна! Кому это знать, как не нам! Мы ведь сами подготавливаем будущее. И в этом могущество новой Германии. Нам понятны эти знаки времени. А характер времени мы определяем сами. На свой лад. Все общественные явления имеют только один смысл, преследуют только одну цель: войну! Она стала общим знаменателем всей жизни. Не происходит ничего, что не было бы хоть как-то связано с нею. И ценно лишь то, что служит ей. Война стала великим примирителем. У нас опять есть общее знамя для разрозненных, беспорядочных толп: война!
До нас не было ничего. Ни убеждений, ни принципов, ни веры. Что еще могла сказать людям церковь? Или буржуазная философия? Кто уже верил в прогресс? Все это давным-давно мертво. Мы создали новую общность. И символ ее — солдат в стальном шлеме, с автоматом в руках, с ручной гранатой за поясом!
Хартенек встал и в возбуждении склонился над лежащим на кровати Бертрамом, чуть ли не тыча в него, словно клювом, своим крючковатым носом.
Затем Хартенек вновь впал в столь свойственное ему состояние педантической медлительности. Он, слегка причавкивая, курил свою сигару, потом снял очки. И показался лейтенанту неприлично голым.
— Я давно уже хотел сказать вам все это! — решительно заявил Хартенек. — Многие наши господа забывают об одном, о том, что у солдата теперь есть свое мировоззрение. Вы, лейтенант, только что тоже весьма забавно высказывались… Я предпочел бы этого не слышать. Смеяться над мелочами, забывая о великом, — это неблагодарно, лейтенант!
От этого неожиданного нападения Бертрам выпрямился на кровати. Но возразить не посмел. Он даже извинился, сказал, что говорил все это не всерьез.
Хартенек перебил его.
— Подумайте-ка, Бертрам, — с торжественной серьезностью произнес он, — что такое вы, что такое все мы и чем мы стали благодаря этому новому мировоззрению? Без нового государства вы были бы в лучшем случае безработным банковским служащим, или штудиен-асессором без места, или еще каким-нибудь бедолагой в этом же роде. Армии не существовало бы, рейх пребывал бы по-прежнему в политическом бессилии. А вернее всего, рейх давно уже погрузился бы в хаос! Иные из наших господ слишком изысканны, чтобы согласиться, слишком изысканны, чтобы признаться честно, кто их спас от большевизма! Их это, видите ли, не касается, Бертрам! Их — нет! А все эти истории нача́ла, все эти заботы о власти черни — всё на поверку оказалось несостоятельным, попросту глупым. Кто властвует — чернь или армия? А разве мы не принадлежим к армии? Не сознавать это неблагодарно. И дурак тот, кто не сделает из этого выводов, не заметит той великой силы, которая тут кроется. И лишь эта сила в состоянии нам помочь, помочь вам, мне, всем нам!
У Бертрама слипались глаза, ему даже казалось, что все эти картины, которые тут рисует обер-лейтенант, просто снятся ему. Хартенек почти с нежностью гладил ладонью — кончики пальцев у него как-то странно загибались вверх — шерстяное одеяло на кровати.
Словно из дальней дали донеслись до Бертрама прощальные слова Хартенека:
— Имейте в виду то, что я сказал. Имейте это в виду!
Обер-лейтенант выключил свет и, мягко проговорив «доброй ночи», ушел.
На другое утро, проснувшись, Бертрам сразу вспомнил о ночном визите Хартенека. Сперва он решил, что все это ему приснилось, и только пепел сигары на ночном столике свидетельствовал, что Хартенек и вправду был тут и на самом деле объяснял ему, что́ он должен иметь в виду.
Тут Бертрам вновь ощутил себя сильным. И для него уже никакого значения не имело то, что в столовой за завтраком товарищи ответили на его приветствие холодно, чуть ли не враждебно. Наверно, думал он, они меня считают карьеристом. Он уже забыл, как совсем еще недавно жаждал быть с ними заодно. Молча, надменно прислушивался он к их разговорам.
В окно он увидел вступавших на плац солдат. Открывались двери ангаров. Солнце вставало над крышами казарм, его лучи слепили лейтенанта. Начинался день.
Этот день шел так же, как прошли уже многие дни и как пройдут еще многие, с утра до ночи в усердных занятиях, имевших лишь один смысл, преследовавших только одну цель: войну.
Это длительное напряжение, серьезность, с которой исполнялись самые незначительные служебные поручения, очень поддерживала Бертрама в эти дни. Помогала ему укрыться от Йоста. У него не было свободной минуты. Он прятал свою робость перед Йостом за настойчиво выставляемым напоказ служебным рвением и все больше льнул к Хартенеку, чьи ночные разговоры сообщали известную удаль его сухому карьеризму и честолюбию.
Читать дальше