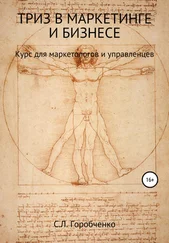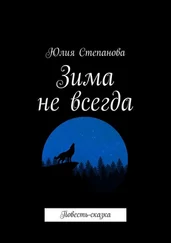— А-а-а, пожаловал! Слышали про таких, слышали… Сыночек, значит, вернулся… А где сам папаша?
Отец Сергея был на фронте. Комиссаром полка.
Появляться здесь парню, конечно, не следовало. Но если уж он тут — как быть дальше? Анищенков выдал его за своего сына, поселил в комнатушке рядом, устроил работать на электростанции.
По-настоящему в эту семью Сергей не вошел (это ведь не так и просто), истинной, сердечной близости, кажется, не получилось, но стал все-таки человеком своим, не посторонним.
Тому, что Николай Степанович оказался вдруг бургомистром, городским головой (словечки-то какие старорежимные!), тоже подивился. Однако опыт научил судить людей по делам. А то, как отнесся Анищенков к нему самому, уже было делом.
Видел, чувствовал, что в семье есть свои секреты, и не лез в них. Но слушал Москву и пересказывал новости на работе. Анищенков знал об этом. Просил только быть поаккуратней.
Как-то зашел разговор об оружии. Сергей сказал, что может достать пистолет. Николай Степанович помолчал, потом ответил: «Не очень торопись. Когда понадобится, все будет». Звучало многообещающе. Хотелось спросить, как это понимать, но не решился. Разница в годах, да и обстановка не располагали к расспросам. Можно ведь нарваться на ответ, который словно бы ставит тебя на место… Похоже, Анищенков опасался горячности, неосторожности ребят — и своего сына Алеши и Сергея.
Однажды заговорили о партизанах: где именно они могут быть? Где их искать в случае необходимости? Да, ставились и такие вопросы. Николай Степанович сказал: «В районе монастыря». Имелся в виду Козьмодемьянский монастырь в горно-лесной части Крыма, в заповеднике. Кажется, хотел что-то еще добавить, но сдержался. Вообще ему все время приходилось сдерживаться — такое было впечатление.
Обходились пока без обстоятельных разговоров, да и вместе собирались не так часто — обычно вечером у приемника. Многое и без слов было ясно. Сергею казалось, что близится момент, когда Николай Степанович привлечет и его к каким-то своим делам, даст задание, а может, и оружие. И тут — арест.
Последний раз виделись в тюрьме, когда Сергею удалось приблизиться на миг к решетке, за которой сидел Анищенков.
Поговорить не смогли: Николай Степанович был плох, но все же попытался улыбнуться.
Положению этого человека не позавидуешь. Очень точно сказано в одних воспоминаниях: «Анищенков все время „сидел на вулкане“. Многие ялтинцы считали его изменником, предателем. Ему приходилось защищаться от своих и от врагов. На него писали анонимки, доносы, жалобы гитлеровцам. Обвиняли в связях с партизанами. Словом, надо было обладать исключительным хладнокровием и выдержкой, чтобы жить и работать в таких условиях».
Выдержки, похоже, у него хватало.
Приведу один пример — об этом случае рассказывали несколько человек. 7 ноября 1942 года Анищенков приказал выдать улучшенный паек населению города, особенно детям. Возможности были ничтожными: немного сладкого, чуть больше обычного хлеба…
Посыпались доносы: бургомистр-де отмечает советский праздник. Когда был вызван, причину вызова хорошо знал, понимал, что дело может кончиться плохо, однако явился эдаким подтянутым, щеголеватым, вполне уверенным в себе господином.
— Как! Разве вы забыли? Ровно год тому назад в Ялту вступили германские войска.
И ведь пронесло. Господин комендант, говорят, даже расчувствовался.
Не хочу выдумывать человека — хочу, насколько это можно, приблизиться к нему. Выдумать, сочинить, право же, легче. Наделить выражением глаз, какой-нибудь особенностью в говоре, в походке (а этим отличается каждый человек), подкинуть ему какое-нибудь острое приключение… — что может быть проще! Но я хочу увидеть этого человека на этих улицах. Мне интересен Николай Степанович Анищенков, живший некогда в Ялте. Здесь он был счастлив и здесь страдал, здесь ходил летом на пляж, а осенью в горы вместе с маленьким сыном Алешей, рассказывал ему о море и лесе, о рыбах и птицах, и здесь оставил его высоким, сильным, самолюбивым парнем, с тоской понимая, что оставляет навсегда, но уже не думая о себе, желая только одного — чтобы сын остался жить и был счастлив.
Я хочу понять его и, кажется, в чем-то понимаю.
Человек — как зерно. Оно может попасть в жернова, превратиться в пыль — муку и отруби, а может прорасти и выбросить флаг — побег цвета надежды. И то и другое предопределено. Здесь нет лучшей или худшей судьбы — они одинаковы, обе они — смерть. Но каждый человек, хотя бы в мечтах, хочет уподобиться флагу. Таким был, наверное, и он. Отчаянно сопротивлялся чудовищной силе, старался изменить ход событий, не смея этого показать, проявить наружно, только надеясь, а не веря, что это когда-нибудь будет оценено.
Читать дальше
![Станислав Славич Три ялтинских зимы [Повесть] обложка книги](/books/421116/stanislav-slavich-tri-yaltinskih-zimy-povest-cover.webp)
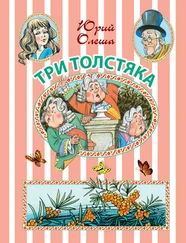


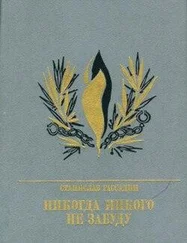
![Станислав Пономарев - Под стягом Святослава [Историческая повесть]](/books/415081/stanislav-ponomarev-pod-styagom-svyatoslava-istorich-thumb.webp)
![Станислав Калиничев - У «Волчьего логова» [Документальная повесть]](/books/422988/stanislav-kalinichev-u-volchego-logova-dokumenta-thumb.webp)