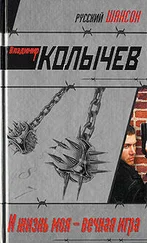— Как вы мне посоветуете? Поверить этому фон Баху или подождать, пока нас всех тут зажарят? — Леон минуту ждет ответа, а потом нервно взывает: — Как вы мне посоветуете? Почему вы мне не отвечаете…
«Понемногу падает занавес. Сейчас он отделит его от тех, которые еще не сыграли своей пьесы до конца. Он уже по другую сторону сцены, около выхода, куда уходят усталые актеры. Скоро наступит финал этой малоинтересной пьесы. Скоро… это когда? Завтра? Через неделю? Леон и все остальные, которые сквозь прищуренные веки наверняка сейчас смотрят на ведро с последним литром воды, выйдут ли они на зеленые луга? Успеют ли?
Сейчас несомненно лишь одно, что они переживут меня на те два часа, за которые можно успеть выкопать неглубокую яму и спрятать меня в ней. Спрятать от всего того, что их еще ждет. Два часа… если бы это все должно было предстать передо мной. И эти первые выстрелы, и эти несколько недель смерти… Я хотел бы прожить еще два часа. Я хотел бы дожить… Не до тех недель, которые мне подарили мои легкие, а до тех первых выстрелов. Это хорошо, что умираю вовремя, что я не умер на два часа раньше… А потом они… по зеленым лугам… где растут цветы… где пахнет трава… Где? Где?»
Печка встает первый. Он идет к Леону, осторожно, потихоньку, как бы боясь кого-то разбудить. Но он не разбудил никого. Все встали с сенников. Все смотрят в тот угол, который утром будет уже пуст. Печка наклоняется над Сергеем. Касается его руки — раз, другой.
— Не будьте идиотом, — говорит Леон. — Вы что, не верите?
— Все может быть, — ворчит Печка.
Он смотрит на недвижное тело Сергея и медленно возвращается на свой тюфяк.
Но прежде чем лечь, ткнул пальцем в тот угол и сказал монотонно, но без пафоса:
— Счастливчик. Какая прекрасная смерть.
— Вы ему позавидовали? — крикнул Леон. — Позавидовали? — повторил он.
Но Печка не ответил.
Перевод Л. Петрушевской.
Губерт вошел в комнату вслед за пожилой женщиной.
— Он здесь лежит, — сказал она и с явной неохотой вернулась в кухню.
Комнатка была маленькой и темной. Окно, занавешенное грязной, желтой тканью, давало ровно столько света, чтобы можно было различить очертания мебели. Кровать стояла у окна.
Губерт пошел туда. Заскрипел пол, и Губерт услышал голос Рафала:
— Кто это?
— Это я, Губерт.
— Губерт? — В голосе лежащего радость смешалась с недоверием. — Садись, дорогой. Сюда, рядом со мной.
Глаза постепенно привыкали к темноте. Стал виден Рафал, пытающийся сесть в кровати.
— Лежи, — сказал Губерт. — Лежи. И не мучайся. Ты должен как можно скорее поправиться.
— Для чего? — спросил Рафал. — Для чего? — повторил он вызывающе.
— Как для чего? Ты что, не хочешь к нам вернуться? Ты уже обо всем забыл? — Губерт пытался говорить спокойно, но у него эта не получалось.
Рафал молчал, и его молчание усиливало недобрую, болезненную тишину.
— Как ты себя чувствуешь? — Губерт пытался заново начать разговор.
— Как видишь. Говорить я еще могу. Ты знаешь, самое смешное для больного, когда он слышит, как врач сулит быстрое выздоровление. Единственный забавный момент этой довольно печальной истории. Но врачи не умеют хорошо врать, а может, им кажется, что такого больного, как я, который ждет самого малого утешения, можно успокоить любой ерундой. Ладно, обещаю, что о себе я больше не скажу ни слова. Теперь говори ты. Я хочу знать все…
Губерт знал, что при этом разговоре должны быть произнесены именно такие слова, и всю свою долгую дорогу готовился к ответу. Но сейчас он чувствовал свое бессилие. Имел ли он право что-то утаивать от Рафала? Ведь с его именем были связаны все самые крупные операции, когда его вынесли из-под обстрела на окровавленном одеяле, то в тот момент казалось, будто в могучем мосту рухнул целый пролет…
— Губерт?
— Да…
— Губерт, когда ты будешь уходить, я дам тебе маленькое письмо к маме. Я тут накарябал ей пару строк о себе. Тебе не нужно будет ничего говорить…
— Хорошо, я передам. Скоро, кстати, ты сам ее навестишь.
— Не будь ребенком. Я сам лучше всех знаю, что из этого мне не выбраться. К тому же мы условились обо мне не говорить.
— Ладно, я расскажу тебе о ребятах. Они очень хотели тебя увидеть.
— Увидят, — сказал Рафал и тихо засмеялся.
— Чего ты смеешься?
— Значит, я увижу ребят. Что в этом странного?
— Когда я уходил, «Волк» сказал, что у него есть для тебя новенький «бергманн». Он его добыл в последней операции и бережет для тебя.
Читать дальше

![Джек Вэнс - Кларджес [Вечная жизнь, Эликсир жизни]](/books/44619/dzhek-vens-klardzhes-vechnaya-zhizn-eliksir-zhizni-thumb.webp)