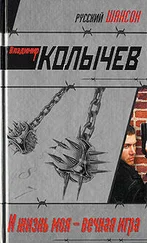2
Уже вторую ночь они к Одре принюхиваются. По ночам сподручней осваиваться с рекой. Мутная, черная вода в некоторых местах подходит почти к самому шоссе. Когда стемнеет, можно к ней приблизиться не сгибаясь. Немцы ведут себя ночью вполне прилично. На польском берегу еще не погасли все пожары. Горит лес в Густебизе, трещат, догорая, деревянные домишки в Цекерике, но все это последствия дневного артналета. Теперь лишь пулеметчики на обоих берегах реки ведут между собой разговор без особого энтузиазма, короткими очередями. Рутяк вернулся из лесу с охапкой сосновых веток. Он готовил себе логово столь старательно, как будто собирался проспать в своей яме весь апрель. «Песочек для тебя твердоват, королевич?» — шпынял его капрал Юзефацкий, первейший виршеплет в роте, а может, во всем третьем батальоне. Юзефацкий писал послания своей зазнобе исключительно в стихах: «Как только кончится война, будешь ты со мной всегда. Как фашистов разобьем, будем мы с тобой вдвоем». Подобные стихи имели общечеловеческое звучание и с одинаковым успехом могли сослужить службу как Юзефацкому, так и тем, кто лучше управлялся с винтовкой, чем с пером. Капрал был страстным курильщиком. И пожалуй, только потому не мог оставаться бескорыстным служителем муз. Впрочем, Юзефацкий установил исключительно льготную для молодых солдат таксу. За четверостишие брал сигарету или щепотку махорки на приличную козью ножку. «Песок для меня не жесток, — отвечал Рутяк без тени гнева, — да словно бы отдает мертвечиной. А от сосновой веточки под головой, от такой подушечки зеленой — смоляной дух. Если им дышишь, то и помирать не хочется, а коли помирать нет охоты, значит, не помрешь». «Пустое говоришь, Рутяк, — фыркнул Юзефацкий, но не отходил от выстланного сосновыми ветками ложа. — А разве есть такие, что на тот свет торопятся? Есть ли такие вообще?» «Почему бы им не быть? — Рутяк поглядел на капрала с ласковой снисходительностью. — Вот Куцва из первой роты, например, у него одна думка: всегда быть впереди. Добровольцев кликнут — он тут как тут. Почему бы им не быть? Я к своей старухе, к девахам своим тороплюсь, а он? К кому Куцве возвращаться? От избы только пепелище осталось, а от семейства одна большая могила. Чужими руками вырытая». Рутяк уже переворачивался на другой бок, запыхавшийся от столь длительного невеселого разговора, смертельно усталый за день на лесосеке, где валили высокие прямые сосны, из которых саперы сколачивали надежные плоты. И уже шинель натянул на голову, и глаза закрыл, ибо даже в темноте глаза закрыть требуется, чтобы как следует перед сном разные важные мысли привести в порядок, как вдруг фамилию свою услыхал. Подумал еще с закрытыми глазами: «Не дадут человеку выспаться, от ночных дел добра не жди, особенно на войне, а без сна воевать скверно», — но уже все более настораживаясь, ибо голоса сперва послышались у железнодорожного полотна, а потом ближе, среди деревьев, наконец совсем близко, у перекрестка лесных стежек: «Рутяк наверняка уже кемарит, точно крот в норе, бери левее и чуток пониже. Рутяк… Рутяка… Рутяку-то хорошо. Своего добился. Теперь уже прямо». Рутяк вскочил, выпрыгнул из окопа и побежал, спотыкаясь о корни. «Владек, сыночек, неужто не видишь меня? Ведь я стою прямо на твоей дорожке, ведь я еще не призрак. А отца родного и в ночи видеть положено». Они обнялись, как выдохшиеся боксеры, которые отдыхают с минуту, подпирая друг друга. Только и было тишины, пока обнимались, обессиленные от радости. Потом шагали плечом к плечу, хотя определение это не совсем точно, поскольку сын был по крайней мере на голову выше отца. А старик говорил торопливо обо всем, что следовало высказать: «Да, значит, поручик слов на ветер не бросает, и вот мы вместе, Владек. Это по справедливости, сын обязан при отце находиться и на пахоте, и на поле брани, и, если родителев последний час пробьет, полагается сыну у его смертного одра преклонить колена. Вот мы и вместе. Я сосновых веток принес на подстилку и сала кусочек припас, чтобы от разговора скулы не свело. Чуяло сердце гостя дорогого. Перекусим маленько и скажем друг другу, что в таких случаях полагается. Ведь как мы из Грейфенберга вышли, я только раз с тобой встретился и из дома никаких писем не получал. А утречком, едва рассвет, ты увидишь, Владек, отменную картину из моего окна. А картина такая: сплошную воду увидишь и клочок неба. И мы, Владек, эту воду избыть должны». Сын жевал пожелтевшее от старости сало и поддакивал. Потом угнездился в окопе, поджал длинные ноги к животу и не возразил, когда отец накрыл его своей шинелью. Еще четыре дня назад, когда они, запыхавшиеся, совершая ночные марш-броски, проходили пустые деревни и поселки, Рутяк с тревогой думал о том, что будет завтра; а теперь он бормотал что-то над спящим сыном, а если и вспоминал о завтрашнем дне, то не было в его мыслях никакой тревоги. И если бы даже этой ночью приснился Рутяку достоверный сон, в котором генерал Бевзюк разговаривает с полковником Сеницким о судьбе-злодейке третьего батальона, Рутяк не отогнал бы своих мыслей, исполненных благости. Ибо на войне испокон веков одних осеняет злая судьба черными крылами, а другим суждено помилование.
Читать дальше

![Джек Вэнс - Кларджес [Вечная жизнь, Эликсир жизни]](/books/44619/dzhek-vens-klardzhes-vechnaya-zhizn-eliksir-zhizni-thumb.webp)