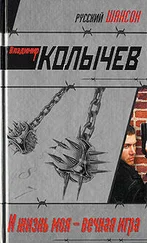Розенталь снова очутился в постели. Жена втиснула ему за спину две подушки, и он полусидя повел разговор. Вернее, монолог, ибо по мере сил никому не давал открыть рта. Он знал все, а если не все полностью, то большего не желал знать. Мир теперь так черен, что никакими белилами его не отбелишь и никакая чернота его более не зачернит. — Изыди, женщина, не показывай мне лекарство, вылей в помойное ведро эту пакость. Пододвинься, Витольд. Ничего мне не объясняй, я все знаю. У евреев хорошая разведка, хотя им нельзя и носа высунуть из города. А она все-таки действует. В середине января арестовали в Билгорае весь юденрат, так щебжешинские евреи узнали об этом раньше, чем здешняя жандармерия. Война наконец нас кое-чему научила. Научила? Нас? Точно знать, что приближается смерть, и защищаться от неизбежной смерти — это две книги на совершенно разные темы. Сабина, где книжка, которую тебе подарил пан Буковский? — Папа, ты же знаешь, что сожжена. Все сожжены, кроме твоих медицинских… — Одетая в толстый свитер, она все еще жалась к кафельной печке, а печь была холодна. За приоткрытой дверцей зияет чернотой погасшая топка. — Ну, знаю. Можно и так использовать книги. Мы жгли книги не на кострах, движимые ненавистью. Они нас обогревали. — Розенталь умолкает на минуту, он устал, взмок от волнения, но машет рукой, призывая жену: — Доба, не кажется ли тебе, что сегодня следует порубить стол? Зачем нам стол, если стулья уже пошли в огонь? А у нас такой гость, хотя бы теплом следует его попотчевать. Не дашь же ему черный сухарь… — Леон, это бессмысленно. — Доба приближается к постели, держа пузырек с лекарством. — Женщина, не показывай мне этой бутылки. Я думаю, надо стол порубить. — Подождем, Леон, не к спеху, — спокойно возражает Доба, — немного потеплело, а пока стол изрубим, пока кофе согреется, Витольду пора будет возвращаться. — Сабина закрыла глаза, словно ее усыпил этот разговор о повседневных делах, которые ничего не значат. Были книги, нет книг. Есть стол, завтра его не будет. Теперь Витольд смотрел только на Сабину и чувствовал себя лишним, униженным. В мечтах он представлял себе эту встречу совсем иной. Именно Сабина должна была обрадоваться ему больше всех. Его надежда должна быть ее надеждой. Розенталь, видимо, что-то почувствовал, погладил Витольда горячей, липкой от пота ладонью. — Не удивляйся, что Сабина совсем другая. Молчит, прячется в своей скорлупе, как улитка. Голод ее измотал, нервы замучили. Она здоровая, только слишком много плохого видит и мало ест. А теперь еще бегает на киркут, еврейское кладбище, ведь там после комендантского часа самое безопасное место. Вот и приходится потом отсыпаться у печки. — Вы отпускаете ее по ночам на кладбище? — возмущается Витольд, и это возмущение кажется Розенталю крайне забавным, он смеется, качает головой, как будто не может надивиться тому, что человеческая наивность столь живуча. — Ты задаешь странные вопросы. С какой стати мне ее не отпускать? Разве она одна ищет спасительной щелочки на киркуте? Жандармы уже столько раз устраивали облавы по ночам и перед рассветом на молодых евреев. Зачем Сабине здесь дожидаться, пока не придут за ней? — Доба Розенталь достала из кармана обломок черного сухаря и направилась к Сабине. — Съешь, сонливость пройдет… — Пусть спит. Сон здоровее сухарика из опилок… — Леон Розенталь заговорил так тихо, словно все же сомневался, что сон имеет преимущества перед сухарем.
Евреи и пленные советские солдаты помещались вместе в шестнадцатом бараке. Несколько сот человек. У пленных не отбирали обмундирования, поношенные, рваные гимнастерки мало чем напоминали военную форму. Евреи получили полосатую лагерную робу. Только те, из вчерашней вечерней партии, остались в вольной одежде. В черных кафтанах и модных осенних пальто, в пыльниках, а иные в одних пиджаках. Глядя на них, можно было безошибочно установить, кого сцапали в разгар зимы, кого в июле или августе. Кого с улицы, а кого из дома.
Буковская достала из буфета четвертинку водки и налила в кружку, из которой Шимко пил кофе. — За здоровье пана Яна… — полицай поднял кружку и про себя возблагодарил всех святых за то, что они сегодня мудро руководили его поведением. Хорошо знать то, что не знает еще даже начальник отделения. Инга Кеммлер? Именно Кеммлер, родом из Баварии. Кто раньше узнает, тот знает вдвое больше. — За его здоровье… — Ирена сделала усилие, чтобы улыбнуться, и ощутила болезненный спазм в горле. — Мне было досадно, когда моя мама грубила вам. Пожилых людей надо прощать, пан Шимко, они совершенно теряют голову в нынешних условиях… — Я ничего не помню… — растроганный полицай отставил пустую кружку.
Читать дальше

![Джек Вэнс - Кларджес [Вечная жизнь, Эликсир жизни]](/books/44619/dzhek-vens-klardzhes-vechnaya-zhizn-eliksir-zhizni-thumb.webp)