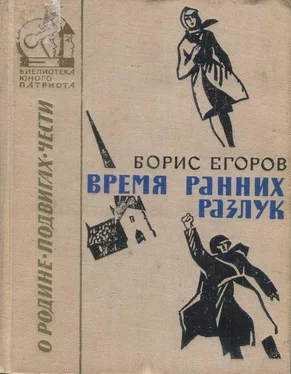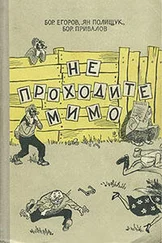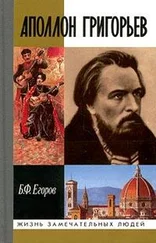Кое-как пробиваюсь.
Нахожу медпункт. Он в маленькой душной комнатушке. Вся она пропахла запахом гноя.
Когда медсестра разбинтовывает мою ногу, меня начинает тошнить.
— Выпейте рюмку спирта — лучше станет, — предлагает она. '
Мне и вправду становится лучше.
Иду на продовольственный пункт. Продукты по аттестату я уже за много дней не получал. Мне дают буханку хлеба с довеском и кусок сала.
Сало с довеском съедаю сразу.
А куда деть буханку? Она в мой вещмешок не влезет, а руки заняты…
Сижу на тяжелой вокзальной скамье. Около меня пожилая уборщица метет пол.
— Мамаша, — говорю я, — возьмите хлеб.
У «мамаши» в глазах радость и недоумение. Буханка черного хлеба для нее — счастье.
Она берет хлеб, говорит «дякую» и торопливо уходит, бросив метлу посреди зала.
Много часов томлюсь на вокзальной скамье, пока наконец не объявляют по радио, что пришел поезд на Москву.
Демобилизованные штурмуют вагоны.
Кого-то придавили. Кто-то кричит.
Чувствую, меня подхватывают сзади крепкие руки. Оборачиваюсь, вижу усатого старшину.
— Крепче держи костыли, лейтенант, — говорит он. Сейчас я тебя подброшу.
Мне уступают место на краешке скамейки. Теперь можно спокойно доехать до Москвы.
Мои соседи, офицеры-танкисты, достают из чемодана ветчину, хлеб, спирт. Приглашают угощаться.
На Курском вокзале в Москве — огромный транспарант: «Привет демобилизованным воинам!»
Здравствуй, родной мой город! Я оставил тебя в тревожную осеннюю ночь сорок первого года. Сколько дней и ночей прошло с тех пор! А теперь кажется: было это совсем недавно.
На привокзальной площади беру такси — старую обшарпанную «эмку». Когда-то давно вот в такой же машине я ехал с Ингой…
От Курского вокзала до Воронцовской недалеко.
Не успеваю опомниться, как я уже дома.
Стучу.
Мама открывает дверь, кричит, плачет, кидается ко мне, но тут же отстраняется:
— Ой, что же я делаю? Ты же упасть можешь. Проходи, проходи, Сашок.
Когда я уезжал из Москвы, мама была молодой. А теперь она совсем седая и глаза выцвели от слез. Чего ей стоило остаться одной, похоронить папу, ждать от меня писем с фронта, узнать, что я ранен, и теперь встретить вот такого сына — на костылях!
Мамы прошли с нами всю войну. Вместе, рядом. И когда нам было тяжело, они это чувствовали, хоть мы им об этом и не писали.
Четырнадцатого апреля, когда меня ранило, мама не спала всю ночь: ей было плохо. Она ничего еще не знала. Письмо из госпиталя пришло только через две недели. Но, видно, сердце у матерей так устроено.
Мама бегает по комнате, суетится, гремит тарелками, накрывает стол.
Потом мы долго молча сидим: о чем говорить, с чего начать? Прошел целый век, и все в нем важно, все значительно. Смотрим друг на друга, не замечаем, как смеркается.
— В этот день, когда ты был мальчишкой, — говорит мама, — то всегда сидел на подоконнике. Ждал артиллерию, конницу…
Да, сегодня 6 ноября. С вечера я садился у окна и ждал алешинцев. Они двигались на военный парад всегда мимо нашего дома.
За окнами густо темнеет большое здание с круглой башенкой — часовой завод.
И вдруг все оно освещается, ярко вспыхивают над крышей слова: «Да здравствует XXVIII годовщина Октября!»


Старший лейтенант Трофимцев писал письмо матери.
«Дорогая мамочка! Это последнее мое письмо. Если ты его получишь, значит, меня на свете уже нет. Я иду на важное задание. Крепко придется схватиться с фашистами. Отступать дороги нет, живым врагам не дамся. Пусть утешает тебя то, что сын твой погиб доблестно, смертью храбрых. Не плачь и не сокрушайся: не один я остался на поле боя и не одна ты осталась без сына. Но у тебя есть чудесный внучонок. Расти его, милого, смешного Кольку. Живи для него, а когда он станет побольше, расскажи ему о папке. Пусть будет молодцом, настоящим советским человеком…»
Перед Трофимцевым на самодельном дощатом столике трепетал в плошке слабенький огонек. В глубине землянки в темноте кто-то тихо похрапывал. Кто-то, может быть, видел хороший сон. А старшему лейтенанту теперь не до сна. Спать не придется долго.
Читать дальше