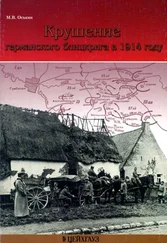«В казарме агитацию вели о гибели, и тут опять… заживо хоронят», — поморщился Гофман и поднялся. Разлил вино, обвел всех решительным взглядом и с тою же решимостью сказал:
Погибнуть на поле боя за Германию — великая честь! Но мы несем смерть своим врагам. Выпьем за нашу конечную победу, которую призвал нас добыть фюрер. Это, господа офицеры, не мечта, а сама действительность. За скорую победу!
От выпитых смешанных вин скоро захмелели. В зале стало душно, расстегивали на мундирах все пуговицы. Фрау Марта открыла стеклянную дверь, вышла на балкон, постояла там, подышав воздухом, и вернулась. Она посмотрела вдруг на Рудольфа Вернера, в мимолетном взгляде офицер уловил потаенную грусть, и ему будто послышалось: «Весна… Что же ты?..» Вернер вздрогнул и пугливо покосился на хозяина: нет, господин майор ничего не подозревает, подпер руками голову, совсем опьяневший. Вернер вдруг вспомнил, как он вместе с приятелем ворвался в одну избу под Смоленском. Они вытолкали на мороз босых стариков, а девушку — русскую девушку — повалили… Вот была потеха!..
Завели патефонную пластинку, начали вальсировать. Фрау Марта опять посмотрела на Вернера, даже подморгнула, давая понять, чтобы он пригласил ее на танец. Обер–лейтенант ответил легким кивком, но танцевать не пошел. Ее подхватил пожилой, лысый со лба вахмистр, ведающий в батальоне снабжением. Вернер подсел к патефону, переставлял иглу, чтобы снова проиграть ту же пластинку, взглядывал на Марту — она и во время танца поворачивалась лицом к нему, кивала головой, мысленно укоряя его. Вернер чувствовал, как нежданно пробудилось и в нем желание. Непрошеное и, кажется, совсем ненужное. «К чему это? Ведь завтра уедем на фронт», — убеждал он самого себя. Он переставил иглу на край пластинки и вышел на балкон.
На улице пахло весною. Небо скрадывалось темнотой. Даже луна не могла пробить темень; она зарождалась, выгнув к земле тонкий и острый серп. Кто–то следом вышел на балкон. Вернер оглянулся: она, фрау Марта! Он повернулся к ней, увидел, как и в темноте блестят ее глаза. Хотел заговорить, чтобы продлить это мгновение, и не мог: язык будто отнялся. Потом взял ее за руку, она не противилась. Кровь хлынула к вискам, возникло безудержное, почти отчаянное желание, и не успел Рудольф прикоснуться к ней, как сама она прижалась вздрагивающим телом. И Рудольф, не помня себя, приник губами к ее шее. Она податливо наклонилась и, еле удерживаясь на его руках, ответно целовала.
Спохватились вдруг, воровато поглядели в комнату на свет.
— Нас увидят и… доложат, — шепнул Рудольф.
— Ничего… Я тебя хочу. Приезжай…
Марта опять приникла головою, и он ощутил запах ее душистых волос…
На погрузку в эшелон солдаты двигались пешими. Можно было и на автомашинах подъехать, но майор Гофман отказался. Умно рассудил: пройтись по берлинским улицам, в последний час взглянуть на столицу империи, ради которой придется сражаться, — много значит для воспитания солдат в истинно немецком духе. И маршрут был избран, как думалось майору, весьма подходящий: шли по широкой, мощенной булыжником штрассе, где устраивались парады, мимо памятников старины, возле правительственных зданий, неподалеку виднелся рейхстаг с застекленным и огромным, как само небо, куполом, а дальше — с пронзительно–острыми шпилями церковь святой Марии, наверху апостолы; склонив головы, они будто несли на своих плечах тяжесть века.
Когда подходили к Бранденбургским воротам, майор Гофман взмахом руки приостановил колонну.
— Однополчане! Однополчане! — обратился он к солдатам, — Вы знаете, что вон там, наверху, колесница Победы… Отсюда отправлялся в поход Фридрих Великий. Здесь начиналось факельное шествие в день, когда Адольф Гитлер стал рейхсканцлером… Тому, кто пройдет под аркой этих ворот, всегда будет сопутствовать победа. Теперь настал наш черед. Мы пройдем через Бранденбургские ворота, веря, что это поможет нам завоевать победу. Победу на Восточном фронте. Хайль Гитлер!
— Хох, хох, хайль! — подхватила колонна так громко, что сидевшие под липами черные дрозды метнулись по кустам.
Длинно вытянутый и прямой, майор Гофман вскинул руку и шагнул в ворота первым. Следом за ним, стуча коваными сапогами по брусчатке, двинулся батальон.
Шли через город, интерес к виденному скоро пропал, и, когда достигли вокзала, уже еле волочили набитые о камни ноги. Не чаяли, как забраться в вагоны. Майор Гофман подозвал к себе дежурного но эшелону, приказал заняться посадкой, сам же направился в хвост состава, чтобы убедиться, погрузил ли посланный с утра вахмистр имущество и походные кухни. На перроне стояли горожане, пришедшие поглазеть на солдат. Гофман обратил внимание на человека, вызвавшего жалость своим удрученным видом. В потертом мундире, он стоял недвижимо, повиснув на костылях. «Обрубок, а приплелся», — подумал Гофман, жалость сменилась в нем раздражением. Было бы в его власти, он прогнал бы калеку с перрона, чтобы не мозолил глаза новобранцам. Но калека стоял, опираясь на костыли. Ему было тяжко так стоять. Худое, изможденное лицо выражало мучительное страдание. У него совсем не было ног. Сзади висели, как шланги, две штанины, из которых торчали железные протезы на резиновых пятачках.
Читать дальше

![Василий Соколов - Привала не будет [Рассказы о героях]](/books/27316/vasilij-sokolov-privala-ne-budet-rasskazy-o-geroya-thumb.webp)