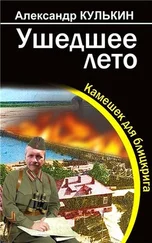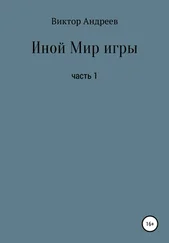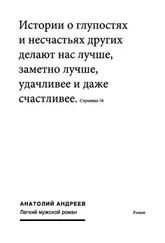Когда она все объяснила, он перестал смотреть на нее стеклянно и вежливо извинился, боялся, что ошибается, но, если не ошибается, то зовут ее Даце, не так ли? Она засмеялась, сказала, что так, но, наверно, ему пора в театр, все курильщики уже потянулись к дверям, наверно, спектакль интересный, наверное, Рихарда ждут уже, он же не один, наверное, в одиночку ведь в театр не ходят, правда?.. Тут она опять засмеялась, потому что и в самом деле, кто же пойдет в театр без партнера или партнерши; но он стоял на своем: пришел, мол, один, никогда не пропускает Вагнера, не хочет ли и она послушать, или наоборот, он возьмет в гардеробе свой плащ, и они пойдут куда-нибудь; она секунду поколебалась и сказала, что лучше куда-нибудь, впрочем, и колебалась она для виду, чтобы немножко повысить цену, она это уже давно усвоила, «да» и «нет» говорят в деревне, а в городе мнутся, мусолят: как вам сказать, я еще не решила, надо подумать…
Он сказал: подождите, Даце, двух минут не пройдет, как я вернусь, и предложил ей зайти в вестибюль, дождь ведь накрапывает, но она сказала: да какой это дождь, чего ради торчать в вестибюле, чтобы пялились на нее, лучше здесь подождет, но если больше двух минут, то спасибо, она ни в ком не нуждается, ауфвидерзеен…
Она и до ста не досчитала, как он снова оказался рядом с нею, уже в плаще и в шапке, в этой, финской, или под финскую, как-то они еще назывались, вроде шуц… щюц… черт с ней, с шапкой, Рихард взял ее под руку и спросил, где же она все-таки хочет провести вечер? а в городе она давно живет? одна? а родители? дядя и тетка? хутор «Ганыни»? у нее квартирка на Кожевенной? в двух шагах от нашего общего друга? не друга, а знакомого?.. Он крепко держал ее под руку, наклонялся, заглядывал ей в лицо и все спрашивал, хотя ей казалось, что, как человек приличный, он просто поддерживает разговор, а ей только этого и надо было, разговор или видимость разговора, потому что не часто доводилось ей вот так по-человечески болтать и ни о чем не думать.
Он привел ее в кабаре, о котором она и не догадывалась, и там был швейцар в ливрее, и будь у него борода, он был бы таким же, как в фильмах… За столиком Рихард сидел как-то очень строго, по-военному, пил очень много, но надо же — ни в одном глазу…
А Даце с каждой рюмкой становится все развязнее. Она и сама это чувствует, но ей хорошо, впервые за долгое время, и она не хочет сдерживаться. Нет, нет, пока еще все хорошо, она не выходит из рамок, только разговаривает громче обычного, вставляет жаргонные словечки и часто смеется — к месту и не к месту. Кое-кто уже поглядывает на нее, мужчины с улыбкой, женщины презрительно, особенно одна немка в форме. Даце хочется показать ей язык, но до этого не дошло.
Даце пьет и танцует. С каждым, кто ее приглашает. Танцует она, пожалуй, тяжеловато, но мужчины говорят ей комплименты, оттого что в таком состоянии появляется в Даце нечто влекущее, какая-то притягательность здоровой самки, сексапиль, как пишут в романах, зов пола.
Как всякая женщина, Даце инстинктивно определяет момент, когда необходимо подновить марафет. И, прихватив сумочку, она отправляется в дамскую комнату. В вестибюле швейцар и дежурная по туалету мирно беседуют, сидя на плюшевом диванчике, и Даце усмехается: вот уж у кого спокойная работенка!
Дверь в туалет Даце действительно толкнула очень резко, но никто же не велел этой немке подставлять свой лоб с той стороны. Стук был изрядный, девка аж побелела и схватилась за голову, словно ей вышибли ее куриные мозги.
Даце честно, хотя и несколько насмешливо, сказала: извините. Сказала и направилась к зеркалу. А немка какое-то время еще подержалась за лоб, а потом пошла прямо на Даце. Даце видела, как она идет, но ей было очень смешно, и она не придала этому значения.
Потом было так. Немка схватила ее за шиворот, рванула и стала бить по лицу. Пощечины были такие, что у Даце буквально искры из глаз посыпались, и она на мгновение задохнулась от неожиданности и ослепляющей боли. Хотя боли-то она, пожалуй, и не осознала, просто было что-то ослепляющее.
Самое странное заключалось в том, что Даце даже не пыталась сопротивляться. Какой-то запрет срабатывал. Немка была мельче Даце, и хотя далеко не хлипкая, но справиться с ней можно было запросто.
И вот же — стояла перед нею Даце, как провинившаяся девчонка, пальцем шевельнуть не смела, слезы текли…
А что, казалось бы, проще — схватить за волосы и тряхануть эту стерву так, чтоб голова у нее замоталась, как у дохлой курицы, ткнуть напудренной мордой в стенку.
Читать дальше
![Виктор Андреев То, ушедшее лето [Роман] обложка книги](/books/412453/viktor-andreev-to-ushedshee-leto-roman-cover.webp)