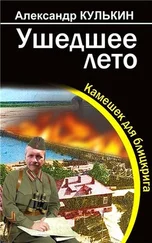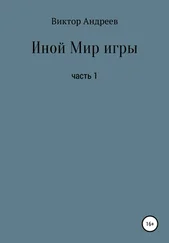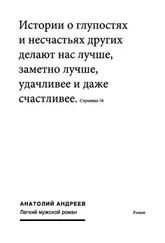Это только для Брувериса одиночество — дар божий. Но у него оно в крови. И у Анны было в крови. Осень, скажем. Уж так вечер тянется — дальше некуда. А они и двух слов друг другу не скажут. Дождь стегает, мокрые листья по окнам шлепают. Угли в плите то совсем белесыми станут, то зардеются от резкой тяги. И в трубе будто филин заухает. Часы на стене: трики-трак, трики-трак… Сидит Бруверис на своем любимом чурбане и смотрит на угли. Анна посуду моет. Вымоет, расставит все по полкам и — в комнату. Постели стелить. Бруверис посидит еще — и тоже в комнату. Анна уже в кровати. Странно спала. Всегда на спине. Руки за голову закинуты. Белые-белые. Белее холщовой рубашки. И Эмилия в родителей пошла. Правда, пока грудная была — хоть из дому беги. Тогда, наверное, и выкричалась. На всю жизнь. Чем старше становилась, тем молчаливее. Когда на материнские похороны приехала, всего и спросила только: мучилась? Он тогда, помнится, только головой помотал отрицательно. Потом, когда дочь уезжала, спросил в свою очередь: денег не надо? И она, опять же в свою очередь, помотала головой. Так и расстались. Навсегда. Немцы ее расстреляли одной из первых. В комсомоле она, оказывается, состояла. А Бруверис и не знал ничего.
… Вот и Московская кончилась. Теперь асфальт пойдет. Эмилия была чуть постарше этой девчушки. В мае сорок первого девятнадцать стукнуло.
… Яблони отцвели уже. Того и гляди распогодится. Вон и тучи побелели. Тут и там голубое проглядывает. У Рыжего хвост вздыбился, как султан на кивере. Опорожнится сейчас коняга на радость воробьям. К вечеру Бруверис доберется до хутора. Не околей на прошлой неделе Дуксис, визг и лай по всей округе бы услышали. А теперь тихо будет. Разве что береза зашелестит под ветром. Оделась она уже. Листочки — как марки почтовые: приклеются — не отклеишь. Ну что ж, значит, лето.
«Ну откуда у нее она может быть?» — бессвязно подумала Ренька, через голову стягивая с себя платье.
Ольга лежала с закрытыми глазами. То ли действительно спала, то ли притворялась. Ноги вытянуты, руки поверх одеяла, правая ладошка под щекой. Плечи не девчоночьи — круглые. Белая, да какая там белая, уже заношенная и посеревшая мужская майка… Увидев эту майку, Ренька как раз и подумала: откуда она у нее может быть — ночная рубашка.
У Реньки их еще оставалось несколько — фиолетовых, и фисташковых, и цвета бедра испуганной нимфы — мамино наследство. Чего только мама не покупала на распродажах! Одуреть можно было. По отношению к ней Ренька всегда чувствовала себя старшей. С малолетства Ренька была в отца. Точнее, в отцовскую сестру. Тетка эта заставляла маму трепетать и говорить заискивающим тоном.
Ренька натянула на себя скрипучую шелковую сорочку и приотбросила край одеяла. Ольга тут же придвинулась к стене. Стало быть, только вид напускала, что спит.
Ренька встала, накинула халатик, вышла в столовую. Донат еще сидел в кухне, курил в плиту. Негромко спросил:
— Ты чего?
— Ничего, — сказала Ренька и стала рыться в шкафу.
Вернувшись в спальню, тронула Ольгу за плечо:
— Ну-ка надень. Ты же не парень, чтобы в майке спать. Да и прямо скажем, она у тебя не первый сорт.
Ольга сразу приподнялась на локте. Сначала глянула на принесенную Ренькой сорочку, потом провела рукой по своей сероватой майке, покраснела:
— В дороге не постираешь.
— Ладно, — сказала Ренька, — я же не в обиду тебе. Переодевайся и давай-ка дрыхнуть. Не то еще, не дай бог, просплю завтра.
— Ты работаешь?
— А как же иначе? Барахла на продажу почти не осталось. Святым духом питаться, что ли?
Стыдливо прикрываясь одеялом, Оля сдернула с себя майку и натянула холодную, скользкую сорочку.
— А где ты работаешь?
— В мастерской. Форму для немцев шьем.
— Для фашистов, значит? — еле слышно сказала Оля.
— Где ни работай, все равно на них получается.
— И строго у вас на работе?
— Заведующая — холера. Так и норовит придраться. Но мы-то вольнонаемные, с нами волю рукам не дашь. А пленным, тем, конечно, не сладко. — И Ренька пояснила: — У нас два десятка пленных девчонок работает. Привозят их каждый день из лагеря. Ну, всякие там санитарки, телефонистки…
— И что же, их… бьют?
— По головке не гладят. Луизка — наша начальница — любительница по щекам хлестать. Или, того хуже — в кабинет свой вызовет и уж там… А в прошлом году три дурехи сбежать решили. Им бы с людьми хорошими связаться, подготовить все, как следует, а они тяп-ляп на свою руку. Ну и поймали их на третий день.
Читать дальше
![Виктор Андреев То, ушедшее лето [Роман] обложка книги](/books/412453/viktor-andreev-to-ushedshee-leto-roman-cover.webp)