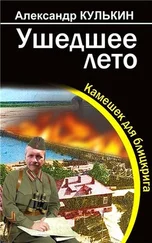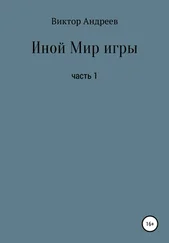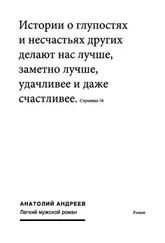Ренька сидела за кухонным столом, напротив Доната, и смотрела, как он уплетает оладьи. А он их именно уплетал, и на смену негодованию пришла жалость. Очень уж изголодался человек, а Ренька до слез жалела каждого голодного.
— Это ж надо такому случиться, — не переставая жевать, сказал Донат.
— Чему случиться? — занятая своими мыслями, не поняла Ренька.
— Ну, с родителями твоими. Прямо судьба какая-то.
— А кто же знал, что на следующий день война начнется?
— Небось мамахен отца на поездку подбила?
— Ну и что? — огрызнулась Ренька. — Она, может, всю жизнь мечтала Ленинград посмотреть. Ты вот партийный был, а знал про войну?
— Никто не знал. Оттого все так и получилось.
— Песен надо было распевать поменьше. А то все маршировали да горланили, как первый маршал в бой вас поведет. Вот и повел. Аж до самой Москвы.
— И это было, — сказал Донат. — Много чего было, Ренька. Ты и тысячной доли не знаешь.
Она криво усмехнулась:
— Куда уж мне.
И опять в ней вспыхнула злость против дядьки, который — если не врет — три года отсиживался за печкой в какой-то латгальской деревне после того, как вырвался из окружения. А ведь идейного из себя строил. Чуть ли не первым в рабочую гвардию записался, в сорок первом в партию вступил. Если и забегал к ним, так на минутку, «Краткий курс» ему, видите ли, надо было изучать. И неожиданно для самой себя она спросила:
— Что ж ты в партизаны не подался? Их же в Латгалии, говорят, в каждом лесу как грибов по осени.
— Шкурником считаешь?
Ренька не ответила, и он, помолчав немного, добавил:
— Ты, племяшка, с выводами не торопись. Поспешишь, выйдет шиш.
Она только презрительную гримасу состроила: ей-то что?
Донат доел оладьи, вытер губы несвежим носовым платком, спиной привалился к стене и вдруг спросил:
— Приютить меня сможешь?
Подспудно она ждала этого вопроса, но для себя еще не решила, какой дать ответ: родня родней, а дело не шуточное, и поэтому без излишней деликатности Ренька выпалила прямо в лоб:
— Тебя же здесь каждая собака знает. Сам влипнешь и меня под монастырь подведешь.
— Нет у меня другого выхода, — ничуть не обидевшись, сказал Донат. — Целый день по разным адресам ходил — все дружки погорели. Не пустишь, нам с Ольгой хана. Хотя документы у нас первый сорт. А насчет того, чтобы влипнуть, ты не волнуйся. Мне тоже в гестапо попасть неохота.
Ренька прямо-таки взвилась: какая еще такая Ольга? что здесь, гостиница «Метрополь» или притон какой-нибудь? Да какого черта, и все такое прочее!
Донат усмехнулся, и усмешка эта, горькая и даже болезненная, держалась у него на лице все время, пока Ренька разражалась своими тирадами, а потом он сказал еле слышно и словно бы про себя:
— Девчонка она. Твоя ровесница. Отца убили, мать на той стороне. Случайно мы встретились, и без меня ей — головой да в воду.
— И где ж ты ее бросил? — все еще резко спросила Ренька.
— На постоялом дворе оставил. Но утром попрут нас обоих оттуда.
— Черт-те что! — сказала Ренька. — Ну просто белиберда какая-то. Самая настоящая белиберда.
Расплатился Бруверис, сунул под стол хозяину «подарочек» — фунта четыре копченого сала да бутыль самогона — и пошел запрягать.
Рыжий никак не хотел даваться, вскидывал голову, ржал, бил копытами, обдавая Брувериса жидкой навозной жижей, и всячески показывал, что ему так весело, так весело! Фр-р!..
Всегда этот чертов мерин в городе веселился. А на хуторе то и дело строил из себя мученика и смотрел на мир тоскливыми глазами несчастного каторжника. Зато поглядите на него здесь — голова закинута, как у арабского скакуна, в глазах огонь и пламя, ноздри раздуваются, хвостом по крупу хлоп, хлоп, словно сам себя погоняет…
…Даже булыжная мостовая на Мельничной какая-то особая. Телегу так подбрасывает, что и вылететь из нее — не фокус. А потом еще будет Московская, которую Ульманис переименовал в Латгальскую. Та тоже не бульвар. Сносная дорога начнется через час, не меньше. Тогда и думать можно будет, а здесь от тряски мысли из головы выскакивают. И все-таки Бруверис думает, хотя и трясет его, как сноп в молотилке.
Говорят, что тринадцать — число несчастливое. Но это — кому как. Его двоюродная сестра в лотерее Красного Креста на билет номер тринадцать тысячу лат выиграла и тринадцатого числа замуж вышла после сорокалетнего девичества. При чем здесь тринадцать? А при том, что месяца не пройдет, скажут Бруверису: завтра к тебе люди заявятся, доставишь в Ригу… И те уже будут четырнадцатые. И означать это будет, что тринадцатых гестапо, по-видимому, уже слопало. А потом пятнадцатые, шестнадцатые… А ведь Бруверис понимает — он только один из связных. И если всю картину брать в целом, так тут не на один десяток счет надо вести. Вот уж занятие! Будто на бойню людей поставляешь. А сам при этом вроде как в стороне. Привез и — ауфвидерзеен. Вот как с этой девчушкой. Ну, с мужиками дело, так сказать, военное — ежели не сюда пошлют, так на фронт, а девок жалко до слез. Везешь такую, а глазища у нее как плошки, и Бруверис кожей чувствует, сколько ей сил стоит давить в себе немилосердный страх, потому что «логово врага» — на словах одно, а на деле другое. Неуютно в этом логове. Даже привычному человеку неуютно. Нет у людей подготовки на одиночество. Всему обучают, а этому — нет.
Читать дальше
![Виктор Андреев То, ушедшее лето [Роман] обложка книги](/books/412453/viktor-andreev-to-ushedshee-leto-roman-cover.webp)