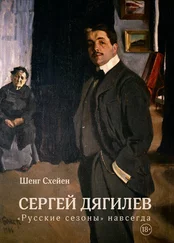Сафронов даже остановился от разочарования. Идея, которая еще минуту назад окрыляла его, вдруг сложила крылья, как птица, подбитая влёт. «За самоуправство по головке не погладят, особенно если корпусной узнает. Он тогда, за этот дополнительно развернутый стол, на меня взъелся, а тут такое дело... Но у меня же есть палочка-выручалочка», — подумал Сафронов о замполите.
— Товарищ гвардии... То есть капитан, — навстречу шагнул Галкин. — Цупу привезли!
— А что на второе? — не вникнув в смысл слов санитара, спросил Сафронов.
Галкин фыркнул и затрясся в хохоте.
— Из-звиняйте.
Смех застревал в горле и не давал ему говорить.
— Что такое?
— Так то ж не суп, а тот... что бежал-то, — Цупа. «Вот вам и первый кандидат», — подумал Сафронов и вошёл в палатку.
Возле раненого стояли все свободные от работы его подчиненные. У Цупы была перевязана голова. Из бинтов торчал один глаз, но он горел таким блеском, что Сафронов понял: солдат еще там, в бою.
— Ну, здравствуй, — сказал Сафронов, подходя к бывшему санитару.
— Здравия желаю, — четко ответил солдат и, предупреждая возможный вопрос, заговорил торопливо: — Вы не обижайтесь. Так получилось... Не удержался... К своим потянуло.
— Не будем старое вспоминать. Остаться хочешь?
— Так как же?..
— Если ранение нетяжелое — оставлю.
— Благодарю, — воскликнул Цупа таким тоном, точно ему сам генерал награду вручил.
Сафронов сделал для себя открытие — глаза раненых.
Теперь, когда поток приостановился, когда поступало двадцать — тридцать человек за сутки, появилось время приглядеться, рассмотреть, заметить.
На военфаке профессор Зимин учил их: «При осмотре смотрите в глаза человеку. Руками чувствуйте, глазами — улавливайте. Больной может сказать не то, не так, а по глазам все видно. Учитесь наблюдать так, чтобы он не заметил, что вы наблюдаете, чтобы не успел скрыть от вас своих ощущений. В глаза, в глаза, в глаза, молодые люди».
И Сафронов видел глаза раненых не раз. В далёком тылу, в госпитале, в блокадном Ленинграде. Это были другие глаза, не такие, какие он видел сейчас, глаза, наполненные болью, страданиями, со следами перенесенных операций и длительного лежания, увеличенные, впалые, с потемневшими глазницами, иногда напоминающие уголек затухающего костра.
Еще в детстве Сафронов не раз бывал на пожаре и однажды поразился, увидев глаза стоящих рядом людей: лица были освещены желтыми и багровыми сполохами, а в глазах трепыхалось пламя. И глаза были то полные любопытства, то страха, то ужаса, то сочувствия, и на всем этом — дрожащие красные язычки в зрачках.
А здесь он увидел перед собой особенные глаза, наполненные блеском боя. В них жил еще азарт наступления.
Боль и страдание где-то внутри, в глубине, может, у самого сердца. Они еще не вышли на первый план, и с большинства губ слетают не слова о помощи, а вопросы: «Как там? Высоту взяли, не знаете?», «А командир цел? А механик-водитель?» Они еще не жалуются, они делятся впечатлениями. Оли не могут молчать.
— «Фердинанда» ловко шарахнули. Мы в лоб, а он нас, не потому что... а заклинило, со страху, должно...
— А мы к водокачке. До половины, значит, она пробита, наскрозь видать, а внизу они... А мы, значит, обошли. Затылки видать. И старшина тихонько так: «Хенде хох»...
В палатку быстро вошла Стома.
— Маленьких привезли, — почему-то прошептала она. Там, куда обычно подходили машины, стояла старая телега, наспех прикрытая травой. У тощей лошаденки переминался старик, в застиранной рубахе до колен, босой, с кнутом в правой руке. Телегу окружила толпа, и потому Сафронов не сразу различил, кто там находится, увидел лишь женскую голову, повязанную полинявшей косынкой. И глаза — опять глаза — совершенно невероятные, остекленелые, остановившиеся, с расширенными зрачками. И еще его поразила тишина — никто не произносил ни слова, ни звука.
Он шагнул к телеге — и толпа расступилась. Женщина прижимала к себе неподвижного, будто окаменевшего, младенца, двое белокурых ребятишек испуганно выглядывали из телеги. Галкин полез в карман, достал кусочек сахара, весь в махорке, обдул его, обтер рукавом и протянул девочке.
По тому, как все расступились и посмотрели на Сафронова, старик, видимо, догадался, что он и есть тут главный, переступил с ноги на ногу, промолвил:
— Ну, так... — Больше он ничего не мог сказать, ткнул кнутовищем в телегу и еще раз переступил.
Сафронов мигом оценил положение. Детишки были ранены, ручонки перевязаны цветными тряпками. Младенец мертв. А мамаша тяжело ранена — нога выше колена перетянута сыромятной уздечкой, которая впилась в тело, как пиявка.
Читать дальше